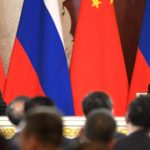АРИСТОТЕЛЬ И АЛЕКСАНДР: ДВА ВЗГЛЯДА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ
Российский Совет по международным делам
Как совместить глобальный универсализм и благородный идеализм с рациональным демократизмом и политическим плюрализмом
Даже не слишком продвинутый Городничий из гоголевского «Ревизора» признавал в Александре Македонском героя, хотя и предостерегал от решимости проиллюстрировать данное утверждение нанесением ущерба казенной мебели. Действительно, первая героическая попытка объединения всей известной европейцам ойкумены была предпринята именно Александром Македонским в 334–323 гг. до н. э. Конечно, и до Александра в истории были великие завоеватели, создававшие обширные империи, но именно он заложил, если можно так сказать, не только материальный, но и идейно-политический фундамент античной глобализации, явив собой образец полностью космополитического правителя мирового масштаба.
Хорошо известно, что учителем и наставником Александра был один из величайших философов древности Аристотель, который в очень большой степени повлиял на формирование личности будущего македонского царя и вдохновил его на великие свершения. По свидетельству Плутарха, Александр говорил, что он обязан отцу тем, что живёт, а Аристотелю тем, что живёт достойно. Менее известно, что взгляды двух великих визионеров античного мира на конкретные пути объединения человечества совпадали далеко не во всем, а с течением времени стали все больше расходиться. Очная и заочная полемика Александра и Аристотеля не прекратилась со смертью Великого царя, в той или иной степени она продолжалась и позднее — уже с другими участниками, оставшись актуальной и до наших дней. Сегодня, когда в мире наметился явный кризис глобализации, и когда вот уже несколько лет повсеместно набирают силу настроения партикуляризма и традиционализма, об этой полемике полезно вспомнить.
Прорыв греческой мысли
На протяжении длительного времени идея политического объединения Эллады считалась в греческих городах-государствах не только еретической и неосуществимой, но и вообще абсурдной. Ревниво оберегаемая независимость отдельных полисов, их постоянная и ожесточенная конкуренция друг с другом воспринимались как родовая черта греческой цивилизации, как важнейший источник ее жизненной силы и свидетельство ее превосходства над сопредельными варварскими государственными образованиями. Подобно итальянским городам эпохи Возрождения античные греческие города соревновались не только в богатстве жителей и в мудрости правителей, но и в развитии архитектуры и скульптуры, образцах ораторского искусства, достижениях философии, поэзии и драматургии.
Греческие корабли, подобно спорам фантастического растения, разносились попутными ветрами по всему протяженному побережью Средиземного и Черного морей; эти споры давали удивительные всходы в виде новых колоний, легко адаптирующихся к любым местным условиям жизни, плодотворно взаимодействующих с туземными племенами и обогащающих общую греческую культуру. Никто не видел смысла в том, чтобы дополнить это не подлежащее сомнению культурное единство еще и политическим союзом.
Ситуация начала меняться после греко-персидских войн 500–449 гг. до н. э. Войны, с одной стороны, привели к небывалому подъему общегреческого патриотического чувства, а с другой стороны, — наглядно продемонстрировали несовершенство полисной системы организации греческого мира. Вскоре после триумфальных побед над Дарием I и над Ксерксом Эллада вступает в затяжной период политического и военного противостояния Афин и Спарты, подогреваемого щедрыми инъекциями персидского золота. Дряхлеющая и слабеющая Персия уже не рискует пойти на новое нашествие, но искусно стравливает греческие города друг с другом, поддерживая слабых и угрожая сильным, поощряя конфликты и расстраивая союзы. Завершается эта бесславная эпоха разрушительной Пелопонесской войной (431–404 гг. до н. э.), после которой былое могущество Афин уже не никогда не было до конца восстановлено.
Отсюда рост популярности идей панэллинизма, то есть идей политического и военного объединения городов-полисов, запрещения войн между ними, координации внешней и торговой политики. В наиболее общем виде концепция панэллинизма была сформулирована знаменитым афинским ритором Исократом в его известном «Панегирике», но Аристотель придал ей присущую ему завершенность и глубину.
Панэллинизм, конечно, не провозглашал задачу строительства Эллинской империи по персидскому образцу. Сама мысль о завоевании обширных территорий, привычная для персидских царей или римских консулов, была полностью чужда мировосприятию граждан небольших городов-государств. Избрав в качестве образца для подражания варварскую и многократно побежденную ими Персию, греки оказались бы предателями самой сути эллинизма. Речь, скорее, шла о создании античного аналога Европейского союза, основанного на политическом и ценностном плюрализме участников, частичном отчуждении «полисного» суверенитета в пользу коллегиальных органов управления, на добровольном самоограничении самых сильных членов союза и т.п. Единство Эллады должно было цементироваться наличием общей угрозы и как бы сегодня сказали, фактором экзистенциального вызова варварского Востока.
Попутно отметим, что объединение греческого мира, по Аристотелю, не предполагало унификации систем управления в отдельных городах-государствах и не требовало обязательного единства ценностей (как в современном Евросоюзе). Философа заботила не столько специфическая форма правления полисов, сколько его качество, и главной проблемой он считал проблему подмены общественных интересов частными интересами правителей. По мнению Аристотеля, любая «правильная» форма правления могла при определенных обстоятельствах деградировать до «неправильной»: монархия превратиться в тиранию, аристократия обернуться олигархией, демократия — охлократией («властью толпы»). Надо отдать должное греческому философу — он смотрел на вопросы государственного устройства намного шире, чем большинство современных западных политиков.
«Война отмщения» как национальная идея
Прозорливый и расчетливый македонский царь Филипп не ошибся в выборе наставника своему сыну и наследнику престола. В лице юного царевича Александра Аристотель нашел благодарного слушателя и восприимчивого ученика. Стоит заметить, что к этому моменту Македония, будучи вполне самостоятельным государством на северо-восточной периферии Эллады, уже находилась под очень сильным греческим культурным влиянием, а также была активнейшим участником общегреческой политической жизни. После того, как царь Архелай перенес столицу из уединенного Эги в приморскую Пеллу, при македонском дворе постоянно находились самые видные греческие мыслители. Именно в Пелле провел свои последние годы великий Еврипид, тут он написал и поставил своих знаменитых «Вакханок». А отец Александра Филипп Великий после знаменитой битвы при Херонее (338 г. до н. э.), где было наглядно показано превосходство македонской фаланги над любыми другими форматами военного построения греческих гоплитов, окончательно утвердил себя в качестве гегемона Эллады.
При всей широте своих взглядов учитель Александра оставался в первую очередь убежденным греческим националистом. Вот что пишет сам Аристотель в своей «Политике»: «Народности, обитающие в странах с холодным климатом, на севере Европы, преисполнены мужественного характера, но интеллектуальная жизнь и художественные интересы у них менее развиты. Поэтому они дольше сохраняют свою свободу, но не способны к государственной жизни и не могут господствовать над своими соседями. Наоборот, народности, населяющие Азию, наделены умом и обладают художественным вкусом, зато им не хватает мужественности; поэтому они живут в подчиненном и рабском состоянии. Эллинский народ, занимающий в географическом положении как бы срединное место между жителями Севера и Азии, объединяет в себе (лучшие) природные свойства тех и других: он обладает и мужественным характером, и развитым умом. Поэтому он сохраняет свою свободу, пользуется наилучшей государственной организацией и был бы способен властвовать над всеми, если бы только был объединен одним государственным строем».
Едва ли Аристотеля можно было бы назвать расистом в современном смысле слова, он был готов признать неоспоримые достижения творческого гения египтян, персов или даже скифов. Но идея «греческой исключительности» сидела в его голове не менее прочно, чем идея «американской исключительности» сидит в головах многих нынешних консервативных политиков США. Оценив выдающиеся задатки своего подопечного, Аристотель настойчиво призывал Александра содействовать политическому объединению Греции, чтобы эта объединенная Греция смогла бы была стать естественным центром ойкумены.
Конечно, Эллада, считал Аристотель, не должна отказываться от своей mission civilisatrice, то есть от последовательных усилий, направленных на расширение ареала греческой культуры, эллинского языка, политических установок и образа жизни греческого ядра. При том, однако, понимании, что полностью «эллинизировать» варварские племена в любом случае не представлялось возможным в силу объективных препятствий на пути такой эллинизации. А естественная территория «греческой цивилизации», по мнению Аристотеля, не простиралась дальше прибрежных регионов Средиземноморья и Черноморья. Возвращаясь к аналогии с Европейским союзом, отметим, что Аристотель, в отличие от стратегов ЕС начала XXI века, отлично понимал риски и опасности бесконтрольного расширения эллинского мира на сопредельные территории.
У Аристотеля не было никаких сомнений в превосходстве греческой культуры и общественной организации над всеми известными ему альтернативами, а потому идея глобального синтеза ценностей и культур едва ли могла прийти ему в голову, а тем более — захватить его воображение. Аристотель, судя по всему, не слишком высоко ценил Геродота и не очень интересовался историей негреческого мира, что, конечно, негативно отражалось на его восприятии варваров. Добавим, что Аристотель был убеждённым защитником прав индивида, частной собственности и моногамной семьи и не менее убежденным противником любого государственного деспотизма. Естественно, он, как и большинство просвещенных греков, не помышлял о какой-то «эллинской империи», но всего лишь хотел увидеть более гармоничное сопряжение интересов независимых полисов.
По всей видимости, в начале своих «славных дел» Александр мыслил примерно так же, как его учитель. Допустимо спорить о том, насколько сын македонского царя Филиппа и эпирской царевны Олимпиады с далекой окраины Эллады мог считаться «настоящим» греком, но нельзя отказать ему в приверженности греческой культуре. Он впитал эту культуру, можно сказать, с рождения, и чувствовал огромный нереализованный потенциал греческого мира ничуть не хуже, чем корсиканец Наполеон Бонапарт чувствовал нереализованный потенциал Франции или грузин Иосиф Джугашвили чувствовал потенциал России. Список гомеровской «Илиады», исправленный Аристотелем и известный под названием «Илиада из шкатулки», Александр имел при себе во всех походах, храня его под подушкой.
Идея «войны отмщения» с Персией была в первую очередь национальной идеей, призванной объединить и повести за собой весь греческий мир. Последнее удалось Александру лишь частично — гордая Спарта отказалась от участия в грандиозном предприятии, в Афинах очень многие, включая непримиримого Демосфена, тайно надеялись на сокрушительное поражение македонского выскочки, а на стороне персов вплоть до смерти Дария III сражались десятки тысяч греческих наемников. Можно предположить, что изначальные мотивы Александра были волне «греческими» — отмщение за долговременную персидскую экспансию, чувство «эллинского превосходства», генетическое презрение свободного эллина к восточным варварам. Последнее чувство, вероятно, было особенно развито у македонского царя именно потому, что его самого политические противники нередко обвиняли в варварском происхождении.
Но в дальнейшем в видении нового глобального мира Александра греческое наследие стало всего лишь одним из строительных блоков всемирной империи. Пусть самым ценным и важным, но все-таки далеко не единственным. Царь быстро перерос свои изначальные планы и установки своего учителя: из последовательного греческого националиста он превратился в первого античного универсалиста-космополита.
Ученик, ушедший дальше учителя
Мы, наверное, никогда не узнаем, в какой конкретный момент Александр начал отходить от ортодоксальных установок Аристотеля. Когда македонский царь железной рукой объединил рассыпающийся греческий мир, учитель мог бы только порадоваться за своего ученика, пожурив его за эксцессы и избыточную жестокость — особенно, за полное разрушение мятежных Фив и продажу в рабство всех тамошних жителей (хотя формально решение о разрушении этого блистательного города было принято не македонским царем, а его беотийскими союзниками). Когда началась «война отмщения» с Дарием учитель также мог быть вполне довольным своим учеником: реализация великого замысла шла в целом по плану Аристотеля.
Македонский царь, скорее всего, хотел, чтобы его учитель присоединился к великому подходу на Восток. Но Аристотель предпочел остаться в Афинах, направив Александру своего племянника Каллисфена. Каллисфен и стал первым летописцем империи Александра. Драматическая судьба этого незаурядного, хотя и, по всей видимости, крайне тщеславного и тяжелого в общении человека как нельзя лучше характеризует перемены, происходившие с Александром по мере осуществления его грандиозного предприятия.
Постепенно новый владыка Азии начал отходить от замысла своего учителя. По всей видимости, «точка невозврата» была пройдена уже тогда, когда, после первых побед при Гранике (334 г. до н. э.) и при Иссе (333 г. до н. э.) Александр отказался принять предложение Дария III о полюбовном разделе Персидской империи по руслу Евфрата с передачей всей западной ее части во владение Александра. Если бы интересы македонского царя ограничивались лишь Средиземноморьем, он должен был бы с радостью принять столь щедрое предложение. Если его отец, Филипп Великий, считал своей программой-минимум отобрать у персов Малую Азию, то Александру предлагали в придачу еще и Сирию, Финикию и Египет. Что могло быть более достойным завершением «войны отмщения»?
Для македонского царя такое завершение войны было бы заслуженным триумфом. Александр мог бы вернуться в Пеллу, став единоличным владыкой всего Восточного Средиземноморья, диктовать свои условия греческому Коринфскому союзу. Да и сам Дарий в таком раскладе оказался бы, скорее, младшим, а не старшим партнером Александра. Аристотель наверняка бы одобрил такое решение. Но для будущего властелина мира ограничить себя Средиземноморьем означало бы отказаться от своей исторической миссии. Он решительно отверг предложение Дария, не стал слушать своих советников и пошел дальше на восток — в Персию, Бактрию, Согдиану и Индию.
Уже во время похода в Египет (332 г. до н. э.) Александр демонстрирует ясное стремление добиться, как минимум, гармоничного сосуществования греческой и египетской культур, а как максимум, плодотворного синтеза двух культурных традиций. В Египте же он демонстрирует не просто религиозную толерантность, но и готовность принять древних местных богов в новый универсальный пантеон будущей империи. Македонский царь принимает титул египетского фараона и признает себя сыном Аммона. Склонность к синкретизму появлялась им и в дальнейшем во всех его походах — вплоть до индийского. Любопытно, что основные руководящие должности в новой провинции Александр вверяет не своим верным, но несколько простоватым македонцам, а опытным египтянам и хитроумным грекам — весьма характерное проявление впоследствии очень типичной для царя меритократии. Наконец, на берегу западного протока дельты Нила царь основал Александрию Египетскую, очень скоро ставшую едва ли не самым ярким символом античной глобализации, своего рода — Сингапуром античности.
Далее, как известно, последовала историческая битва при Гавгамелах (331 г. до н. э.), поставившая точку в споре Александра и Дария III за обладание Азией. Затем было торжественное вступление македонской армии в Вавилон и Сузы, вероятно, срежиссированный Александром пожар в Персеполе (330 г. до н. э.) и формальное завершение «войны отмщения». Отныне новый царь Азии выступает уже не как сокрушитель Персии, а как ее освободитель, не как непримиримый противник династии Ахменидов, а как их законный наследник. Александр окончательно стряхивает с себя остатки аристотелевского панэллинизма и устремляется к новым, неведомым рубежам.
С каждым годом в Александре остается все меньше того, что сегодня мы назвали бы македонской, греческой или более широкой средиземноморской идентичностью. Даже центром своей империи (понятие «столицы» в традиционном смысле слова для государства Александра едва ли применимо) он делает Вавилон, а не какой-то эллинистический город на берегу Средиземного моря. С момента своей высадки на восточном берегу Геллеспонта он уже никогда не вернется в Европу — ни в Грецию, ни, тем более, в Македонию.
Восточная деспотия или просвещенный экуменизм?
Многочисленные греческие критики Александра упрекали царя в том, что он поддался соблазну превратиться в восточного деспота, отринув суровые обычаи македонских предков и тонкость эллинской культуры ради роскоши Востока и пышности персидских нравов. Были ли подобные обвинения справедливыми? Разумеется, роскошь Востока развращала, хотя Александр, насколько можно судить, при всей своей склонности к щедрым подаркам приближенным и к грандиозным празднествам, до конца своей жизни оставался в целом равнодушным к материальному богатству. Скорее, он мог быть уязвимым для тонкой восточной лести, как, впрочем, и для изысканного славословия со стороны своего греческого окружения.
В любом случае, думается, что Александром в первую очередь двигала не человеческая слабость, а стремление осчастливить человечество через синтез Запада и Востока, греческой и персидской (а также египетской, бактрийской, индийской и других) культур. Отсюда — массовые браки и его собственная женитьба на бактрийской княжне Роксане, отсюда — стремление поощрять миграционные потоки между самыми удаленными областями его постоянно растущей империи и готовность создать поистине универсальный пантеон богов, отсюда — его «меритократическая» кадровая политика. В какой-то момент царь перестал быть не только македонцем, но и эллином, превратившись в человека мира, вернее — в «сверхчеловека мира». И если отказ от Македонии Аристотель мог понять и даже приветствовать, то отказ от Эллады автоматически превращал Александра в непримиримого оппонента философа.
Вот что пишет об этом благожелательно настроенный к царю Плутарх: «…(Александр) не следовал совету Аристотеля и не повелевал эллинами как полководец, а варварами как деспот; он не заботился об одних как о друзьях и домочадцах, а другими не пользовался как животными или растениями и потому не наполнил годы своего правления изгнаниями, ведущими к войнам и восстаниям злоумышленников; наоборот, считая себя посланным от бога и всеобщим посредником и примирителем, он тех, кого не мог объединить словом, принуждал оружием, вел всеми средствами к одной цели и, словно в дружеском кубке, смешивал жизненные уклады и нравы, браки и обычаи, повелевая всем считать отечеством своим всю населенную землю, научая видеть твердыню и оплот в военном лагере, почитать смельчаков за родных и трусов за чужих, различать эллинское и варварское не по хламиде и щиту, не по сабле и кафтану, но считать эллинским доблестное, варварским дурное, иметь общую одежду и трапезы, браки и обычаи, смесившиеся в одно благодаря кровному родству и молодому поколению».
В свое время царь Филипп предлагал греческим городам отношения, в которых не должно было быть места для победителей и побежденных, для первых и последних, для ведущих и ведомых. Это же предлагал персам и прочим покоренным народам Александр. Понятно, что и отец, и сын воспринимали себя как верховных арбитров и гарантов такого объединения. Но если отец ставил перед собой задачу объединения Эллады (и в этом он вполне совпадал с Аристотелем), то сын мечтал об объединении человечества, где греческая цивилизация в лучшем случае могла претендовать на место primus inter pares. А для отдельных людей неизбежной платой за такое объединение должен был стать отказ от индивидуальной свободы — разумеется, во имя великой цели.
Царь никогда не щадил себя, и было бы странным ожидать от него готовности щадить других. Справедливо будет сказать, что что итогом завоеваний Александра стало не столько освобождение побежденных, сколько закабаление победителей. Как первые, так и вторые должны были стать помощниками царя, послушными исполнителями его божественной воли. Причем это относилось не только к высшей военной и политической элите империи, но и к тысячам и даже десяткам тысяч греков и македонян, которых Александр оставлял нести службу в отделенных гарнизонах на краю ойкумены с призрачными шансами на возвращение домой.
Аристотелю, наблюдавшему за деятельностью Александра из далеких Афин, все это, конечно же, никак не могло нравиться. Пожалуй, он бы простил своему ученику неизбежные ограничения на личные свободы подданных, но отказа от панэллинизма от простить, разумеется, не мог. Последовательная реализация грандиозного плана Александра с неизбежностью вела к растворению столь любимой Аристотелем Эллады в совершенно новой, универсальной глобальной цивилизации. Даже в чисто демографическом отношении массовое перемещение самых честолюбивых, самых энергичных, самых перспективных молодых людей из Европы в Азию «на ловлю счастья и чинов» грозило долгосрочными негативными последствиями для развития самой Греции, которая была обречена на депопуляцию и прозябание на окраине империи.
Кроме того, бесконечное территориальное распространение греческой культуры неизбежно вело к ее упрощению и вульгаризации — начиная от универсализации классического греческого языка и его превращения в имперский «койне» и кончая деградацией классической греческой архитектуры. Стоит взглянуть на сохранившиеся образцы огромных и роскошных архитектурных ансамблей эпохи эллинизма на Востоке и сравнить их с лучшими архитектурными творениями периода «высокой классики» в самой Греции, чтобы убедиться в том, что размер не всегда имеет значение. Александр, как и многие деспотические правители до и после него, в конце своего правления поддался соблазнам гигантомании, утверждая колоссальные и часто безвкусные проекты. Эту линию в строительстве продолжили и сменившие Александра диадохи.
Аристотель, конечно же внимательно следил за действиями своего ученика. Однако, Аристотель был далеко, а вот его племянник Каллисфен не только вел подробную летопись походов Александра, но, пользуясь своей близостью к царю, не упускал случая напомнить последнему о высоких идеалах панэллинизма. Результатом демаршей Каллисфена стало взаимное ожесточение, а потом и открытая ссора. Первому летописцу Александра пришлось пережить сначала опалу, а затем и вообще оказаться в оковах. Из индийского похода он уже не вернулся, то ли умерев от какой-то болезни, то ли будучи убитым по приказу Александра.
Можно лишь догадываться, какой могла быть реакция Аристотеля на проведенную Александром в Сузах пышную церемонию коллективного бракосочетания македонских соратников царя и дочерей высшей иранской аристократии. Эта церемония противоречила самым базовым взглядам философа, касающимся культурной несовместимости греков и персов, права человека на личный выбор и принципа моногамной семьи (ведь у многих македонских ветеранов дома оставались жены и дети). Александр в данном случае выступил не просвещенным правителем, а отстраненным селекционером, экспериментирующим с выращиванием нового типа человека для своей империи.
Еще больший ужас греческому философу должны были внушить события в Описе, когда, после начавшегося мятежа македонских ветеранов, Александр заявил о своей готовности вообще распустить свою старую македонскую армию. Передав военное командование бывшим противникам, он повелел собрать из людей Востока новую армию, включая фалангу, конницу и даже эскадрон телохранителей царя. Конечно, македоняне были вынуждены молить о прощении, но сама готовность царя вверить свою судьбу и судьбы своего государства азиатам должна была заставить содрогнуться любого сторонника идей панэллинизма.
У Аристотеля хватило здравого смысла не ссориться со всемогущим царем. По свидетельствам историков, философ даже принял от Александра более чем щедрый дар в 800 талантов на исследовательские цели. Но идейные разногласия между учителем и учеником были слишком очевидны, чтобы их можно было скрыть. Когда Александр умер, подозрение в организации отравления Великого царя пало, в том числе, и на Аристотеля. Обвинения в его адрес оставались голословными и не имели для философа серьезных последствий. Но вполне допустимо, что, узнав о смерти своего ученика, Аристотель вздохнул с облегчением. Возможно, человечество — по крайней мере, его греческая часть — уже было готово воспринимать философию Аристотеля, но оно — и особенно его греческая часть — явно не было готовым к тому, чтобы реализовать политическую программу Александра.
Реванш партикуляризма?
Трудно сказать, как могла бы развиваться мировая история дальше, если бы Александру была уготовлена долгая жизнь. Наверное, он без особого труда и в очень сжатые сроки присоединил к своей империи Аравию; поход туда был практически уже подготовлен. Вероятно, предметом его устремлений оказалось бы Западное Средиземноморье, где Сиракузы, Карфаген или Рим навряд ли смогли остановить победный марш великого полководца, и где его завоевания позволили бы избежать будущих ожесточенных Пунических войн. Возможно, через какое-то время Александр снова обратил бы свои взоры на Восток и продолжил незавершенное завоевание Индии, а также занялся освоением акватории всегда манившего его Индийского океана. Не исключено, что в своем стремлении к мировому господству он мог бы достигнуть даже западных пределов Китая, где в это время в полном разгаре были непрекращающиеся междоусобные конфликты Периода Сражающихся царств.
Ясно одно — независимо от выбора географических приоритетов своих будущих походов Александр уже никогда не вернулся бы к идеям панэллинизма и к философским взглядам Аристотеля. Он продолжал бы строить и укреплять свою космополитическую империю, перемешивать народы и этносы, закладывать новые города и укреплять торговые пути. Можно предположить, что в государственном строительстве гений великого македонца проявил бы себя не менее ярко, чем на полях многочисленных сражений. Но судьба распорядилась так, что основная часть сверхъестественной творческой энергии македонца была затрачена на разрушение старого, а не на созидание нового.
Великий завоеватель умер в возрасте 33 лет, не завершив многих из своих начинаний и не закрепив государственных основ своей универсалистской империи. Не сразу, но шаг за шагом, год от года силы партикуляризма начали брать верх над идеями универсализма. Не прошло и двадцати лет после смерти Александра, как великая империя распалась на независимые государства, вступившие в ожесточенное противоборство друг с другом. Примечательно, что эрозия великой империи шла особенно быстро на ее восточных окраинах — в Индии, Бактрии и Согдиане. Центр пост-имперской политической активности все более явно смещался с востока на запад, из глубин Азии к восточному побережью Средиземного моря. Малая Азия, Сирия и Египет стали главными направлениями греческой колонизации и основными центрами эллинизма в Азии.
В какой-то мере можно утверждать, что Аристотель в конечном счете победил Александра. Или, иными словами, македонский царь Филипп победил своего великого сына; граница между Востоком и Западом не была устранена, но она была сдвинута от Эгейского моря к Евфрату. В эллинистических государствах Птолемеев (Египет) и Селевкидов (Сирия) удалось добиться того, чего так и не получилось достичь в самой Греции — преодоления местного полисного партикуляризма. Иммигранты из Европы, переселяющиеся в Александрию или в Антиохию, уже не воспринимали себя как афиняне, спартанцы или македоняне; они все были эллинами, носителями общей культурной и исторической традиции. Однако гармоничного слияния иммигрантов Запада и жителей Востока в одном «плавильном котле» не получилось ни у Селевкидов, ни у Птолемеев — во всех государствах диадохов эллины составили привилегированное управленческое и торговое сословие, мало смешивающееся с туземным населением.
Впрочем, планы Аристотеля в отношении Греции как таковой тоже не были осуществлены. Никакого Евросоюза античности полисы так и не создали, политическая грызня и военные конфликты между ними продолжались, а сама Греция превратилась в площадку противостояния более крупных эллинистических государств. Уже через сто лет после смерти Александра в греческие дела начинает все более бесцеремонно вмешиваться Римская республика, а спустя еще полвека (146 г. до н. э.) на территории Греции создается римская провинция Ахайя.
Конечно, влияние проекта Александра на античный мир не было ограничено созданием или упадком тех или иных государственных образований. Элементы эллинизма как образа жизни и как явления культуры надолго закрепились за пределами собственно эллинистических государств на огромных пространствах Европы, Азии и Африки. Постепенно раздвигались пределы ойкумены, открывались новые торговые пути, расцветали торговые города. Эстафету глобализации подхватили римские консулы, а позднее — римские императоры, осуществив многие из нереализованных планов Александра.
Однако, даже императорский Рим, при всем своем демонстративном космополитизме и своих колоссальных географических масштабах, и на пике своего могущества все-таки оставался преимущественно империей западного мира. До городов Индии и до пустынь Центральной Азии римским орлам так не суждено было добраться. А присоединение к империи южной Месопотамии и Ассирии императором Траяном (115 г. н. э.) оказалось весьма недолговечным — буквально через пару лет его преемник Адриан был вынужден был отказаться от этих приобретений. Евфрат надолго стал границей между западной и восточной цивилизациями. Устойчивый синтез между Востоком и Западом в итоге не получился даже и внутри Римской империи: центробежные силы взяли верх, и исторические траектории собственно Рима и Константинополя со временем окончательно разошлись. А возникновение и географическая экспансия ислама окончательно закрепили границу между Востоком и Западом.
Произвольные исторические аналогии
История развивается по спирали. В каком-то смысле, обстановка в мире сегодня напоминает ситуацию, сложившуюся в античном мире вскоре после смерти Александра Великого. С одной стороны, мы наблюдаем многочисленные признаки кризиса глобализации — сокращение общих объемов международной торговли, прямых иностранных инвестиций, международных миграций и т. д. Повсеместно подчеркивается важность национального суверенитета и национальной идентичности, растет влияние политических сил, выступающих за традиционные ценности и традиционный образ жизни. На смену приоритетам глобализации приходят приоритеты регионализации, долгосрочные и амбициозные имперские проекты уступают место ситуативным и весьма прагматичным планам, обращенным не столько к миру, сколько к внутренним аудиториям. Насколько можно судить, процессы деглобализации уже набрали значительную инерцию и в обозримом будущем не будут обращены вспять.
С другой стороны, утверждать, что «глобализация кончилась», было бы неправильным. Мир становится все меньше, технический прогресс облегчает глобальную коммуникацию, резко сокращает издержки на реализацию географически распределенных проектов. На все государства мира все более сильное давление оказывает груз общих проблем — от нарастающих ресурсных дефицитов до ускоряющихся изменений климата. То, что первая волна глобализации конца XX – начала XXI века захлебнулась, совсем не означает, что человечеству не придется столкнуться со второй волной, или что к этой волне не нужно готовиться.
Диадохи потерпели историческое поражение, поскольку они взяли от Аристотеля и от Александра наиболее очевидные и наименее продуктивные из идей каждого. От Аристотеля ими был взят политический партикуляризм и панэллинский национализм, у Александра они почерпнули деспотический и крайне централизованный стиль правления. При этом, хотя большинство сподвижников Александра были людьми незаурядными, ни Селевк, ни Птолемей, ни Пердикка, ни Антигон, ни Евмен не могли сравниться с царем по масштабу личности и по мощи своей энергии. Поэтому эллинистические государства Восточного Средиземноморья отличались внутренней неустойчивостью и в конечном счете оказались добычей Рима и Парфии.
Решение задачи, стоящей перед человечеством вот уже более двух тысяч лет, требует подходов, прямо противоположных тем, которые избрали для себя диадохи. Как совместить самые революционные, наиболее сложные элементы программ глобализации двух великих деятелей античности — глобальный универсализм и благородный идеализм Александра с рациональным демократизмом и политическим плюрализмом Аристотеля? Решение этой исторической задачи открыло бы перед миром принципиально новые направления развития.