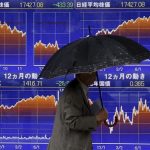Сергей Дубинин: «Если не разворовывать средства, что-то начнет расти»
| Ведомости
Почему в России не может продолжаться нормальный бизнес
Сергей Дубинин возглавлял Центробанк в непростое для страны время: с 1995 по 1998 г. и был уволен после дефолта. Кризисы после этого не кончились. На вопрос, сопереживает ли он сейчас руководству ЦБ, Дубинин отвечает: « Это профессиональные риски – если человек не готов, не надо ходить на госслужбу».
Сейчас он возглавляет наблюдательный совет ВТБ: и возвращаться на госслужбу не хочет – возраст не тот, да и времена не те: «Лично я перешел в эксперты и чувствую себя комфортно в этом качестве. К тому же установление всевозможных требований и неразумных запретов, что можно делать, чем можно владеть, куда следует ездить, я считаю бессмысленными. Я, честное слово, не понимаю, зачем это делается, и играть в эти игры я не собираюсь, и ни на какую госслужбу я бы не хотел возвращаться». Другие игры ему тоже, похоже, не нравятся: инвестиций в стране нет, государственные средства не поддерживают экономический рост. «Если не разворовывать средства, что-то начнет расти. В начале 90-х гг., когда я работал в Минфине, в бюджете всегда существовал определенный размер инвестзатрат по регионам. К сожалению, я не знаю ни одного проекта, который был введен в действие, хотя там и была профинансирована государственная часть даже в тех тяжелых условиях. И эту ситуацию нельзя повторять, она не допустима – в стране уже нет ресурсов, экономика не потянет», – прогнозирует Дубинин.
– В России на финансовом рынке время от времени сильно трясет. Вы многое повидали за годы профессиональной жизни, пережили дефолт. ЦБ – до сих пор неспокойное место. Сопереживаете коллегам?
– Это профессиональные риски – если человек не готов, не надо ходить на госслужбу.
– Кто вас первым позвал в структуры власти?
– Впервые в 1991 г. это были Олег Ожерельев и Вадим Медведев, помощники президента Михаила Горбачева. Меня пригласили советником в аппарат [президента].
– Но вы пришли на госслужбу из академической сферы. Вы сомневались, когда принимали решение?
– Конечно, были сомнения. В 1991 г. уже после путча мне близкие люди говорили: «Ты что, с ума сошел? Всю эту команду через полгода к стенке поставят». В 1993 г. это почти и случилось – мы были близки к такому развитию событий. Но надо было принимать решения и быть готовым ко многому, иначе не надо было туда соваться.
– Почему сомневались? Опасались, что может не получиться: одно дело – теория, другое – практика?
– Просто понимаешь, что в стране что-то не получается. Думаешь, что знаешь, что и как исправить. Есть еще вопрос – насколько ты готов к административной работе. Это же совершенно другая жизнь. В тот момент никто не предвидел, что ситуация перерастет в такой кризис. Было понятно, что экономические проблемы очень серьезны, но что разразится столь сильный политический кризис, я был не готов. Но пришлось и через это пройти.
– Что было самым тяжелым моментом за время госслужбы?
– Принятие решения по дефолту в 1998 г. Это же был и политический вопрос, не только экономический.
– Военные были в пуле принятия решений, шли консультации со спецслужбами?
– Нет, я не имел к ним никакого отношения. Это, может быть, было уже потом.
– Решение по дефолту было вашим или оно было коллегиальным?
– Решение было коллегиальным, в конечном итоге его принимал [Сергей] Кириенко как председатель правительства.
– Насколько драматично оно принималось? Это же был крайний шаг – объявить о банкротстве страны.
– Когда мы собрались на обсуждение в субботу, было понятно, что в понедельник, как только откроются банки, народ все оттуда вынесет. У нас не было ресурсов, чтобы покрыть такой спрос, и тем более не было ресурсов, чтобы обменять рубли на доллары. Надо было принимать окончательное решение – что с этим всем делать. Бессмысленно было принимать какие-то промежуточные решения по девальвации.
– Почему? Девальвации оказалось бы недостаточно?
– Одной девальвацией дело бы не обошлось, потребовалось бы проводить ее снова и снова. Вариант девальвации просчитывался до принятия решения по дефолту. Уже в ноябре-декабре 1997 г. стало понятно, что без радикального изменения бюджета мы не сможем обслуживать такие долги.
– Но было же девять месяцев, чтобы попытаться предпринять что-то.
– Мы пытались бороться, пытались изменить ситуацию. Тогда надо было собирать налоги и обрезать госрасходы, но сделать этого не удалось: Госдума ничего слышать не хотела о секвестре, они были увлечены только одним – импичментом президенту Ельцину. Все строилось по принципу: чем хуже в стране, тем лучше для них.
– То есть парламент внес свою лепту в то, чтобы дефолт случился. А если бы в тот момент удалось сократить расходы, могли ли события развиваться не столь драматично?
– Но возможно, такое решение не приняло бы общество на тот момент. Ведь после дефолта министру финансов Михаилу Задорнову удалось провести через эту же самую Думу столь радикальный бюджет, о котором мы просто мечтать не могли: он исполнялся по доходам, но в нем не было лишних расходов. И удалось провести такой бюджет, при том что правительство было прокоммунистическим – им руководил [Евгений] Примаков, первым вице-премьером по экономике был [Юрий] Маслюков, бывший председатель Госплана. После дефолта правительство и Дума позволили принять бюджет, который нам с Кириенко хотелось принять за полгода до этого. Вот такой парадокс развития событий. Дума после дефолта надеялась провести нужную работу по снятию президента.
– Получается, дефолт – это цена за возможность снять президента?
– Считается, что кризис расчищает поляну. С экономической точки зрения и с точки зрения ЦБ дефолт был наименьшим злом. Если бы раздали снова рубли, инфляция подскочила бы до 1000%. Выбор был такой – эмиссия ЦБ и раздача денег, но на покрытии ГКО дело бы не остановилось, все равно бы обвалился валютный курс, западные банки все равно бы изъяли деньги с рынка и российские обанкротились бы из-за опционов. Кризис бы никуда не делся, но еще была бы огромная инфляция.
– Выбор диктуется способностью взять на себя ответственность за жесткое решение, которое может стоить карьеры?
– Конечно, посмотрите, например, на Грецию. Всем понятно, что она не заплатит по долгам. Если Еврокомиссия скажет: мы понимаем, что вы не сможете заплатить, долги списываем – кто победитель? Ципрас. А если [премьер-министр Греции Алексис] Ципрас через неделю сам объявит дефолт, получится, что политически выиграла Европейская комиссия и страна признала свою неплатежеспособность. Какой бы вариант ни реализовался, экономический результат будет один и тот же, просто есть разные конструкции принятия решения: кто отвечает по долгам, как общество воспринимает тот или иной шаг и кто получает политические дивиденды.
– Как вам кажется, Грецию дожмут?
– ЕС будет добиваться от Ципраса признания несостоятельности. В итоге, конечно, Евросоюз все равно будет помогать Афинам, но по принципу своего контроля над ситуацией: вы убедились, что сами ничего не можете сделать.
– А для вас дефолт – это был какой выбор?
– Я не хотел на себя брать ответственность за уничтожение всего того, чего стране удалось добиться за 10 лет. Мы справились с инфляцией, и снова запускать этот маховик нельзя. Я сказал: такое решение существует, но я немедленно ухожу в отставку, если хотите его принять – принимайте без меня.
– Но вы же понимали, что в случае дефолта вас в любом случае отправят в отставку, даже если вы и предотвратили более серьезные жертвы.
– Понимал. Так, по крайней мере, все было честно.
– Кто докладывал Борису Николаевичу о том, что страна должна объявить дефолт?
– По переговорам с МВФ докладывал Кириенко. Чубайс тоже летал. Я там не присутствовал.
– А Борис Николаевич не пытался опротестовать решение – не стучал по столу со словами «не допущу»?
– До президента Ельцина было донесено, что решение о дефолте неизбежно. Он это понял.
– Но объявляли о дефолте уже вы с Кириенко, поэтому это жесткое решение ассоциировалось с вами, что политически выводило Ельцина из-под удара с посылом «во всем виновато правительство и ЦБ».
– В этом есть своя разумная логика. Но после дефолта под ударом уже оказался Ельцин. Потом пытались вернуть Черномырдина на пост премьера, его кандидатуру не приняла Дума. Далее все складывалось довольно интересно – пошла чистая политика с людьми, напоминающими генерального прокурора, и проч.
– Политика превалировала в принятии экономических решений – и так бы все продолжалось, если бы экономике не повезло, когда нефть подорожала?
– Да. Но любой, кто сказал до конца правду, должен был уходить в отставку. Я думаю, Ельцин понимал, что он не доработает до конца [президентского срока], и сам готовил замену, подбирал кандидатуры. Были разные варианты. Понятно, что ему было лучше уйти и передать полномочия кому-то другому. Стояла угроза импичмента. Но модель была построена так, что надо было передать полномочия премьер-министру, это и было сделано. Сначала назначили [Сергея] Степашина, потом [Владимира] Путина. Для Думы тогда становилось бессмысленным объявлять импичмент, если во главе правительства стоял не тот человек, о котором они мечтали. Кстати, они почему-то не просчитали вариант, который лежал на поверхности: что если будет другой премьер, то конструкция импичмента теряет смысл, поскольку другой человек получает рычаги власти.
– В Думе, кстати, все те же люди, которые пытались порушить конструкцию.
– Сейчас другая обстановка и другие амбиции. Да, люди в значительной степени те же, часть из них стала верными путинцами – пожалуй, включая и КПРФ.
– В агонии, которую мы видели в конце прошлого года на финансовом рынке, правительственные чиновники сначала винили спекулянтов, были начаты расследования, потом Шувалов сказал, что проблемы произрастают из кризиса 2008 г. Вы в одном из публичных выступлений говорили, что все глубже – корни в том, что происходило до 2008 г., и в недореформированной экономике. Сейчас мы видим стабилизацию на финансовом рынке. По вашему мнению, эта стабилизация – видимая: погасили пожар и продолжаем в том же духе – проблемы не решаем?
– Я как раз боюсь, что достигнутая стабилизация на финансовом и прежде всего валютном рынке создает иллюзию, что все проблемы решены и дальше все пойдет автоматически. Но идея, что у нас может продолжаться нормальный бизнес, опасна. У нас нормальный бизнес, который был в начале 2000-х гг., стал невозможен после кризиса 2008–2009 гг., и непризнание этого факта – беда. Именно из-за этого мы стали сползать в кризис в 2013 г.: инвестиции в страну стали неэффективны для частного капитала – и иностранного, и внутреннего, да по большому счету и для госкорпораций тоже.
– Почему вдруг инвестиции стали неэффективны для всех?
– Это связано и с недостатком ресурсов из-за того, что рост цен на сырье прекратился, и с тем, что не росла производительность труда – она отставала от роста заработной платы, в результате все эти годы шла потеря конкурентоспособности на внутреннем рынке: импорт рос, одновременно внешняя конкурентоспособность терялась из-за отсутствия фактора снижения затрат.
– Кто виноват? Монополии, которые разгоняли рост затрат за счет роста тарифов?
– Это все вместе – и так называемые естественные и неестественные монополии. Например, бензин считается рыночным товаром, существует очень много производителей – но почему цена одна и та же? Понятно, что на этом рынке картель, – доказать не могу, но это ясно, и аналогичная ситуация существует во многих секторах. В результате неконкурентная экономика не принимает новых инвестиций и не дает рыночных импульсов. Именно в этом основа стагнации.
Поэтому срыв, который произошел осенью на финансовом рынке, был неизбежен, девальвация была неотвратима. Может быть, она была бы более плавной: если бы не было санкций, корпоративные долги могли бы быть рефинансированы и не было бы такого спроса на валюту. Но из-за снижения цен на нефть этот сценарий все равно бы реализовался. При снижении нефтяных цен экономика все равно бы вошла в нулевой рост, т. е. темпы 2013 г., когда инвестиции уже не росли, но все выглядело более или менее стабильно.
– Получается, санкции – это даже хорошо: фактор цементирования элит и еще есть на кого списать проблемы.
– В этом и беда: мы называем только санкции как причину всех бед экономики. Да, Запад поставил задачу надавить на Россию, но в наших проблемах виноваты не санкции, а структурные проблемы, причем не только на межотраслевом и макроэкономическом уровне, а у каждого отдельного предприятия есть одна и та же проблема – не растет производительность труда, а затраты увеличиваются. Сейчас проблема роста затрат временно снята: в реальном исчислении зарплата понизилась примерно на 6–10%, что поддержало конкурентоспособность. Но при стабилизации курса рубля любое увеличение зарплат будет вести к росту затрат в реальном исчислении без учета инфляции и в рублях, и в валюте. В итоге мы придем к тем же проблемам, которые не решили в 2013 г. В долгосрочном плане санкции означают потерю возможности использовать новые технологии.
– Значит, антикризисная программа правительства была направлена только на тушение пожара?
– Любое правительство в момент острого кризиса будет делать то же самое. В декабре – январе стояла задача не допустить каскадное падение банков, иначе страна остановилась бы: современная экономика не может работать без банковского обслуживания.
В целом со стороны финансово-экономического блока правительства и ЦБ все было сделано правильно. Можно, конечно, критиковать, что следовало что-то сделать раньше или позже, но в принципе они выдерживали меры в правильном направлении. Во всем мире так работают: в момент острого кризиса из бюджета производится поддержка финансовой системы конкретными субсидиями. Были применены также нестандартные инструменты денежной политики, это также мировая практика. У нас пытались эти меры совместить, но проблема в том, что деньги перетекают в валютный рынок.
– Дополнительная ликвидность в декабре уходила на валютный рынок, в итоге загнали курс рубля к доллару на невиданные высоты.
– Да, пришлось находить оптимум – с ошибками, со срывами, в итоге вернулись к регулированию по учебнику с помощью процентных ставок. Но нестандартные меры все равно будут продолжаться. Сейчас надо каким-то образом убирать валютные аукционы репо, потому что они искажают ситуацию на рынке. Валюту надо покупать, и ЦБ начал это делать. Аукционы уже тоже сворачивают, но делают это через увеличение цены валюты, поднимая проценты по кредиту в сделках репо.
– Это правильно?
– Да, спрос на валюту таким образом ограничивается и переносится на валютный рынок. В результате показатель валютного курса становится более реалистичным. Загонять курс рубля к доллару вверх на отметку 50 и ниже неправильно. Это было сделано искусственно, потому что ЦБ предоставил из золотовалютных резервов значительные кредиты игрокам, которые нуждались в долларах, именно поэтому банки не пошли на валютный рынок, и в результате рубль там торгуется по хорошей цене, но она реально не соответствует спросу и предложению.
– Спрос на валюту ограничили. Можно это считать стабилизацией?
– Проблема купирована. К тому же приток валюты обеспечен положительным сальдо платежного баланса. Сейчас надо думать о переходе к экономическому росту, он автоматически не начнется.
– Благодаря стабилизации сыграли на ожиданиях – игроки видят стабильность на валютном рынке, всем кажется, что кризис закончился, бизнес начнет оживать, население начнет покупать и больше тратить – и так может все наладиться?
– Воздействие на ожидания – это правильная мера, вся западная денежная политика на этом построена. Но ситуация противоречивая: ЦБ снизил ставку до 12,5%. Но текущая инфляция превышает 16%, значит, деньги предоставляются с отрицательной ставкой. Правда, по прогнозу ЦБ, инфляция должна снизиться до 6%. Но тогда получается, что ставка 12,5% – высока, деньги предоставляются слишком дорого.
Но сам по себе сигнал тренда регуляторы отстраивают правильно. Хотя по факту снижения инфляции пока не произошло.
Проблемы в макроэкономике не могут решиться сами собой: инвестиции снижаются, внутренний спрос не растет. Пока немножко оживает потребительский спрос, который ранее сократился из-за падения реальных доходов, что вызвало изменение структуры потребления – в частности, некоторые люди отказались от покупки автомобилей и проч. Сейчас структура потребления стабильна, но инвестиционный спрос продолжает падать. Это связано и с политикой санкций: нет западного капитала, а российский бизнес не вкладывается из-за опасений негативного развития событий – не дай бог война. Это серьезный фактор. С легкостью о войне разговаривают лишь люди, которые не имеют отношения к экономике.
– Но многие считают, что конфликт на Украине затянется на годы. Может ли в таких условиях начать расти инвестиционный спрос?
– Может, но для него нужно будет строить подпорки. Инвестиции пока могут увеличиваться только в рамках государственно-частного партнерства. В конечном итоге они могут привлечь и поддержать частные инвестиции.
– Иностранные деньги ждать не стоит?
– Возможно, придет Китай, арабские страны. Иностранные инвесторы могут сейчас прийти на портфельные инвестиции – так дешево российские активы стоили только в начале приватизации. Но это будут инвесторы определенного типа – те, кто не боится риска, кто может вкладываться в активы ниже инвестиционного рейтинга. Они могут купить акции наших ведущих компаний в свои портфели – и уже это делают, но эти вложения не создадут экономический рост – это только спекулятивная игра. Чтобы обеспечить даже восстановительный экономический рост, нужны инвестиции, а признаков того, что они появятся, пока, к сожалению, нет.
– Раз снижение инвестиций шло с 2013 г., не предопределено финансовым кризисом и санкциями, а диктуется неэффективностью, что надо предпринять, чтобы концептуально переломить ситуацию?
– Нужно делать традиционные вещи: выстраивать работу судебной системы, давать гарантии для частной собственности. Это известные меры, и, если все это не начать отлаживать, так российская экономика и будет жить за счет полугосударственных средств.
– Олимпиад и чемпионатов мира по футболу?
– Вложений в инфраструктуру – в первую очередь.
– Регионы могут стать точками роста, если начнут реализовывать проекты с помощью поддержки государства?
– Если не разворовывать средства, что-то начнет расти. В начале 90-х гг., когда я работал в Минфине, в бюджете всегда существовал определенный размер инвестзатрат по регионам. К сожалению, я не знаю ни одного проекта, который был введен в действие, хотя там и была профинансирована государственная часть даже в тех тяжелых условиях.
– Так ничего и не было построено?
– Построено было, но введено в действие не было. И эту ситуацию нельзя повторять, она недопустима – в стране уже нет ресурсов, экономика не потянет.
– А может ЦБ в такой ситуации что-то сделать? Вы не готовы, кстати, пойти туда, чтобы спасти страну?
– Уже бы не пошел. По многим причинам. Возраст уже не тот.
– У ЦБ рычагов нет?
– Лично я перешел в эксперты и чувствую себя комфортно в этом качестве. К тому же установление всевозможных требований и неразумных запретов, что можно делать, чем можно владеть, куда следует ездить, я считаю бессмысленным.
– Почему вам это кажется странным – так было устроено в советской системе: начальник сказал.
– Я, честное слово, не понимаю, зачем это делается, и играть в эти игры я не готов и не собираюсь, и ни на какую госслужбу я бы не хотел возвращаться. Если это будет распространено на представителей государства в советах акционерных обществ, тогда придется уходить в отставку.
– Пока вам такие указания не давали?
– Пока нет.
– Значит, не так все плохо.
– Я не вижу смысла устанавливать такие ограничения. Я понимаю, как механизм работает, я опытный бюрократ (смеется). Давно подмечено: самые ярые националисты всегда своих сограждан считают заведомо предателями. Исходя из этой логики строится данная часть политики – не только у нас, но и в мире: если людям не запретить, они убегут.
– Но из-за рекомендации госслужащим не ездить за границу посыпались туркомпании.
– О них никто не подумал.
– Никто не подумал, как политическое решение скажется на экономике?
– Политика, видимо, была важнее. Но опыт показывает: политика важна в ближайшие два месяца, а через год экономика так отвечает, что вся политическая конструкция рушится. В долгосрочном плане работает экономика, и без нее никакую политику построить нельзя. Сейчас вопрос один – если ты не можешь производить товары дешевле, чем в Китае, или не можешь делать инновации, как в США, ни о какой экономической силе говорить нельзя. Надо конкурировать либо по одному, либо по другому направлению.
– Но если у нас воспроизводится модель госкапитализма – деньги даются госкорпорациям, а они строят трубопроводы в Китай, – в итоге из этого ничего не получится?
– Проекты по экспорту в Китай могут быть разумными и окупаемыми. Это надо считать, я не обладаю цифрами и не знаю, как они просчитаны. Я работал в «Газпроме» и знаю, что эти маршруты просчитывались еще пару десятилетий назад. Во время моей работы эти проекты были неокупаемы и нереалистичны, поскольку цена на газ привязана по цене к нефти, а она была дешевой. Кроме того, в газовой отрасли наш основной конкурент – Иран: месторождение Южный Парс по своим масштабам – это примерно Тюмень. Когда этот газ в больших объемах выйдет на рынок, у России возникнет непростая ситуация. Иранским газом можно запитать Европу через СПГ, заводы уже построены и ждут танкеров. Спасает то, что Ирану нужно время и определенный объем вложений. Пока иранский газ покупает Китай.
– Второй трубопровод с российским газом может не понадобиться, если Иран нарастит поставки в Китай?
– Если Китай решил развивать северные территории страны, для них важны поставки из Сибири. Это нормальный бизнес, если он просчитан и есть платежеспособный спрос. Я не думаю, что западный маршрут будет востребован в ближайшее время. Другое дело, что китайский рынок не заменит для России рынки ЕС.
– Если вернуться к финансовому рынку, как вы считаете, можно будет уйти от финансирования экономики со стороны ЦБ?
– На самом деле приток валюты идет через продажу валюты экспортерами, у нас достаточно приличное положительное сальдо платежного баланса, и ключевые экспортеры – «Газпром», «Роснефть» – получили от государства задание продавать валюту, существуют согласованные графики. Так что здесь главный источник финансирования не ЦБ.
– А на банковском рынке?
– ЦБ предоставил банкам по сделкам репо около $39 млрд, это серьезный объем, но не критический. Он нормально поддерживает нынешний спрос на валюту. В год компаниям надо будет рефинансировать около $100 млрд, но часть долгов иностранным кредиторам являются рублевыми, по части задолженности идет реструктуризация, поскольку не все компании оказались под санкциями, и есть кредиты холдинговых компаний своим «дочкам», там тоже идет рефинансирование. То есть здесь катастрофической перспективы нет. По рублевому долгу могут возникнуть проблемы у банков, если их клиенты не смогут расплатиться. Доля госсредств в пассивах банковской системы выросла, и, если будут нарастать плохие долги, банкам придется вновь идти за деньгами в ЦБ. Для банков сейчас главная задача – разобраться с клиентами, ведь они не могут себя чувствовать лучше, чем их клиенты.
– Надо банкротить и списывать?
– По проблемным долгам не обязательно оформлять дефолты или идти в суды и изымать имущество, с которым непонятно, что делать. Лучше, чтобы клиенты были в нормальном состоянии. Банки должны вести постоянный диалог с бизнесом, задача – сохранить клиентов. Вторая проблема – сохранить отношения банков с вкладчиками. Я, например, понимаю позицию [Германа] Грефа, что нужно ввести лимиты на возмещение средств от АСВ, потому что речь идет о приличных суммах – и там сейчас строятся пирамиды: иногда банки повышают проценты по депозитам и за счет следующих клиентов отдают средства предыдущим. Но высокие проценты всегда означают повышенный риск.
– Еще одна пирамида – фундамент для нового кризиса?
– На самом деле от кризиса к кризису состояние банковской системы улучшается, ведь уроки выучиваются. Банковская система в гораздо лучшей форме, чем в предыдущий кризис. Беспокоит то, что население продолжает перекладываться в валютные депозиты. Это непростая ситуация.
– Просто в рубль веры нет. Как можно переломить долларизацию?
– Это можно будет переломить, только если в стране начнется экономический рост. В нулевые годы удалось вернуть доверие к рублю – шла дедолларизация.
– Доверие к рублю подорвано?
– Подорвано, но не катастрофически – рубль не развалился до той степени, до которой мог бы.
– А удар по доверию вкладчиков был сильным?
– Вкладчики не ушли из банков, но объем банковских вкладов не растет – неприятная ситуация, поэтому приходится компенсировать госденьгами, прежде всего кредитами ЦБ.
– Почему ЦБ начал расчистку банковской системы и отзыв лицензий только при Эльвире Набиуллиной? Это должен был сделать Сергей Игнатьев. Или он не мог, потому что у него были политические обязательства, которых нет у нынешнего главы ЦБ? Или ей был дан соответствующий мандат?
– Ни тот, ни другая мне не рассказывали про свои политические обязательства – это вопрос к ним, я комментировать не берусь. Я думаю, пришло осознание того, что банковская система должна очищаться от структур, которые практикуют нечестную конкуренцию: набирают депозиты, а потом объявляют себя банкротами или исчезают. К моменту прихода Набиуллиной проблема перезрела, и решения были необходимы. И они были приняты. Вероятно, сыграло свою роль и то, что руководство страны обратило внимание на отток капитала и на всяческие схемы – и в итоге увидело банки, которые в этом были завязаны. Ведь в какой-то момент шла оплата импорта без поставки товаров. Особенно красиво выглядело, когда белорусская или казахстанская таможня должна была прислать справку о том, пришел импорт или не пришел. Некоторые коллеги по банковской системе просто пошли вразнос!
– Выводили все деньги, которые могли?
– Да, стали представлять в ЦБ просто фальшивые контракты на оплату импорта. Видимо, в какой-то момент был достигнут политический консенсус – надо прекращать эту практику, и были приняты соответствующие решения.
– То есть все должно дойти до кризиса или апогея, чтобы проблемы начали решать?
– Система всегда развивается через кризис. В России, к сожалению, мы вообще очень далеко ушли в сторону дирижизма. Мы перевели экономику в ручное управление и никак не можем выйти из этого режима.
– Почему молчат наши либералы в правительстве? Они же должны понимать, что так нельзя.
– Некоторые люди, работающие на министерских постах, действительно по убеждению рыночники, но практикуют другой подход. В кризисе ручное управление неизбежно: надо что-то быстро решать. Все думают: пройдем пик кризиса – и отпустим, вернемся к рыночным методам. Но вернуться уже не так просто – и мешают ментальные факторы. Вот поэтому и нужны инвестиции, они способны изменить ситуацию. А придумать какие-то новые рычаги помимо инвестиций невозможно: так не бывает – повернул золотой ключик, дверь открылась, и все наладилось.
– Амнистия может стать стимулом для инвестиций в отсутствие иностранного капитала. Вам кажется, она нужна?
– Если я правильно понимаю, в какой-то момент будет предложено задекларировать не только то, что припрятали или скрывали, а вообще все зарубежное имущество. У меня, например, есть квартира в Баден-Бадене, я с этого имущества плачу налоги. Я задаю вопрос налоговым консультантам: нужно будет вписывать в декларацию это имущество, если я и так с него плачу налоги и не скрываю? Они отвечают: мы не понимаем, но, наверное, надо. Вероятно, будет этап, когда все добросовестные люди, а не те, кто что-то скрывал, начнут декларировать имущество за рубежом. Видимо, у нашей налоговой службы просто появится информационная база. Так что пока это выглядит как перепись всего зарубежного имущества.
– Зачем нужна такая база?
– Чтобы была (смеется). И чтобы всегда можно было к ней обратиться, когда возникнет вопрос, так ли платит налоги тот или иной человек или не так. Эта цель решается. Другая цель – увеличения налоговых поступлений, наверное, тоже решается. Нет постановки задачи – чтобы россияне расстались с активами за рубежом или перевели их в Россию. По крайней мере, так это излагают [Дмитрий] Медведев, [Антон] Силуанов и [Игорь] Шувалов. Звучит так: у нас все будет зарегистрировано, и у вас все будет зарегистрировано, и это должно быть сделано в юрисдикциях, с которыми у России есть договоренность по налогам, или там, где не нарушаются требования FATF.
– Но станут ли регистрировать те, кто скрывал?
– Это вопрос. Наверное, это зависит от развития ситуации в России и уверенности бизнеса.
– Но ведь под легализацию в Россию могут прийти нелегальные капиталы, общаки?
– За этим FATF пристально наблюдает. Если это произойдет, Россию немедленно поместят еще в один санкционный список. Просто здесь надо четко отрабатывать юридические процедуры. Объявить всеобщую амнистию невозможно, должны быть четко прописаны процедуры.
– Даже в ОЭСР не очень понимают, что это за амнистия в России.
– Похоже, пока все сведется к переписи имущества. Информационное общество же требует новых подходов.
– Это конец тайны российских капиталов за рубежом?
– В мировой экономике эпоха банковской тайны закончится в 2017 г. – и в России в том числе.
– То есть мы вовремя все делаем?
– Мы движемся в правильном направлении с учетом того, что происходит в глобальной экономике. Будет существовать обмен между налоговиками и банками, обо всех счетах будут сообщать.
– Западные юристы говорят, что технически обмен информацией будет сложно реализовать – появятся неподъемные базы, в которых что-то найти будет просто невозможно.
– Будет избирательное использование. То, о чем рассказывал Сноуден, поиск по ключевым словам – либо просмотр информации на конкретного человека. Так это работает у спецслужб.
– Понятно, информация должна быть на всякий случай. А как обстоят дела у ВТБ, где вы возглавляете наблюдательный совет? Группа всегда активно зарабатывала на сделках M&A, а не сильно развивала сегмент кредитования. Как вам эта модель? Не критикуете Костина?
– У нас в 2014 г. была принята стратегия развития группы ВТБ на три года, потом после указания основного акционера была отработана пятилетняя программа, в ней ключевая задача – повышение эффективности. Еще до кризиса комитет наблюдательного совета стал добиваться постановки этой задачи – и в итоге мы нашли понимание у менеджмента. Требуется не экстенсивное расширение бизнеса и поглощение новых банков, а именно рост эффективности: сокращение затрат, повышение эффективности риск-менеджмента. Тогда были выработаны требования по сокращению затрат и реструктуризации – сокращению количества бэк-офисов, снятию дублирующих функций, избавлению от профильных активов. Это стало центром программы группы, модель настроена под это.
Нужно учитывать, что «ВТБ капитал» остается, но все операции на финансовом рынке приносят сейчас мало дохода – из-за санкций мы оказались отрезанными от внешних рынков. Но этот бизнес живет как самостоятельный, это направление сохранится.
Однако аналитики сомневаются, надо ли собирать розничный бизнес в единую банковскую структуру. Как раз принято решение собрать в головную структуру розничное и корпоративное кредитование. Сначала стоит задача полностью инкорпорировать Банк Москвы. Здесь важно не создавать промежуточных платформ – нужно перестроить IT-инфраструктуру таким образом, чтобы обслуживание розничного бизнеса проводилось на платформе, полностью совместимой с головной структурой. Техническое решение выработано, сам переход займет некоторое время. Когда эта часть будет решена, можно будет приступить к работе с «ВТБ 24». Не исключаю, что будет рассмотрен вариант самостоятельной структуры по мелкой рознице, т. е. самостоятельность Лето-банка. Но основная часть будет соединена в одном юрлице, в этом стратегия.
– Стратегия была принята еще до кризиса. Она будет корректироваться с учетом того, что ситуация на финансовом рынке поменялась?
– Если потребуется, корректировки будут внесены, но повышение эффективности – главная задача, тут ничего поменяться не может. По производительности труда в банковском секторе в России наблюдается такой же разрыв с развитыми странами, как в большинстве секторов. У нас на одного занятого в банковской системе в 2 раза меньше активов, чем в США. В среднем в России производительность труда – около 30% от западных стран. Так что в банковской системе дела обстоят даже немного лучше.
– Куда должна двигаться модель ВТБ и российская банковская система?
– Только за счет высоких рисков и высокой маржи развиваться неправильно. Должна сокращаться и рисковость, и маржа, главное сейчас – это контроль затрат. Кризис стимулирует эти процессы. В ноябре 2014 г. я на банковской конференции в Лондоне говорил коллегам и журналистам, что в условиях кризиса главное «рубить косты» и не впадать в панику. Правда, потом цитировали только про панику (смеется).
– Возможно зарабатывать на кредитовании при таких ставках?
– А на чем еще может зарабатывать банк, кроме как на кредитовании. Ставки должны нормализоваться рано или поздно.
– У Сбербанка какая главная проблема?
– Я в чужой огород не ходок.
– Некорректно говорить о коллегах, но если задать вопрос по-другому: если бы на него смотрели из ЦБ, вы бы что сказали?
– Проблема прежде всего в управлении активами.
– Нужно иметь отделения в каждом микрорайоне при таком развитии новых технологий?
– Часть клиентов все операции готова проводить через смартфон, но ведь часть клиентов ничего, кроме сберкнижки, не знает. Банковская система должна работать со всеми клиентами, нужно находить компромисс. У нас многоукладная экономика, и это отражается на банковской системе. Приходится жить в нескольких моделях – и для крупных городов, и для населенных пунктов, для разных возрастных слоев.
– Не только в разных моделях, но и в разном времени – в ХХ и ХХI вв., раз есть сберкнижки и бумажные носители.
– Такова наша экономика – она очень разнородная, многоукладная.