Матрица русской культуры: Миф? Двигатель модернизации? Барьер?
Матрица русской культуры: Миф? Двигатель модернизации? Барьер?
Вопрос о культурных факторах, влияющих на модернизационные процессы, обсуждается достаточно давно. При этом ключевой остается проблема, существуют ли универсальные культурные концепты, способствующие общественному развитию, или же все процессы замыкаются на национальной специфике. Эти и другие смежные вопросы оказались в центре внимания участников XIX ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), прошедшей в апреле 2011 года и получившей название «Культура, будущее России, ее место в мире». При этом, по словам Александра Архангельского, «под культурой понимались не только и не столько искусство, литература, театр, сколько вся сеть общественных институтов, порождающих, сохраняющих, изменяющих, разрушающих и снова создающих смыслы». Материалы Ассамблеи и легли в основу представленной на лекции книги «Матрица русской культуры: Миф? Двигатель модернизации? Барьер?»
Совет по внешней и оборонной политике
Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ
Факультет медиакоммуникаций НИУ-ВШЭ
Редколлегия:
С.А. Караганов (председатель)
А.Н. Архангельский (ответственный редактор)
А.Г. Качкаева
А.А. Белкин
Т.В. Борисова
© Совет по внешней и оборонной политике, 2012 ISBN 978-5-9903512-1-9
Содержание
Александр Архангельский
Между гарантией и шансом (Предисловие)
1. Русская культурная матрица: тормоз на пути развития или его опора?
Сергей Лавров
Культура, будущее России и ее место в мире
Даниил Дондурей
О так называемых российских культурных матрицах
Дмитрий Быков (Внесён Министерством юстиции РФ в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, 29.07.2022.)
Два в одном и третий лишний
Павел Пожигайло
Матрица. Этика. Путь.
Контекст: фрагменты дискуссии
Александр Музыкантский
Леонид Григорьев
Виталий Третьяков
Анатолий Вишневский
Георгий Сатаров
Константин Затулин
Ольга Крыштановская
Андрей Клепач
ОСОБАЯ ПАПКА
Владимир Хотиненко:
«В современной культуре нет сияющих вершин»
2. Модернизация через культуру: неизбежность национализма?
Виталий Куренной
Национализм как форма современности
Екатерина Гениева
Неизбежность национализма = неизбежность тупика
Максим Соколов
Между звериным национализмом и национализмом просвещенным
Сергей Чапнин
Церковь, культура, русский национализм
Сергей Васильев
Бразилия: модернизация без национализма
Контекст: фрагменты дискуссии
Сергей Цыпляев
Игорь Бунин
Вячеслав Никонов
Андрей Зубов
Владимир Ворожцов
Алексей Малашенко
Евгений Кожокин
Алексей Подберезкин
Павел Лунгин
ОСОБАЯ ПАПКА
Валерий Тишков:
«О триединстве современной культуры»
ОСОБАЯ ПАПКА
Виталий Куренной:
«В основе этнических конфликтов – столкновение городской и негородской культур» 3. Школа как политический институт культурной модернизации
Евгений Ямбург
Не стратегия, а бухгалтерия
Александр Привалов
Почему учителя молчат?
Михаил Шнейдер
Необходимость долгого взгляда
Контекст: фрагменты дискуссии
Георгий Бовт
Дмитрий Быков (Внесён Министерством юстиции РФ в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, 29.07.2022.)
Анатолий Адамишин
Леонид Григорьев
Константин Эггерт
ОСОБАЯ ПАПКА
Павел Лунгин:
«Культура снимает с людей скафандры одиночества»
4. Русский язык как следствие модернизации и как форпост традиции
Вячеслав Никонов
Русский язык русского мира
Ирина Левонтина
Лингвистический оптимизм
Максим Кронгауз
Язык – нереформируемая сущность
Контекст: фрагменты дискуссии
Александр Музыкантский
Вячеслав Никонов
Валерий Тишков
Игорь Милославский
Андрей Климов
Владимир Рубанов
Евгений Кожокин
Леонид Григорьев
Александр Архангельский
Виталий Третьяков
Алексей Малашенко
Юрий Кобаладзе
Вячеслав Никонов
Александр Мордовин
Анатолий Вишневский
Михаил Шмаков
Максим Кронгауз
Ирина Левонтина
ОСОБАЯ ПАПКА
Даниил Дондурей:
«В России сейчас не культуротворческая ситуация»
ОСОБАЯ ПАПКА Александр Архангельский:
«Мир управляется не одними только интересами»
Александр Архангельский
Между гарантией и шансом (Предисловие)
Старая преподавательская шутка. Накануне 1917 года Россия стояла на краю пропасти. После 1917 года она сделала огромный шаг вперед»… Сто лет назад мы оказались перед чудовищной развилкой. Все задачи, решение которых давало шанс на мирное развитие, были долгосрочными. Превращение расхристанного пролетариата в цивилизованный рабочий класс. Переход из тотальной общины к фермерству по датским образцам. Эволюция самодержавия в конституционную монархию. А процессы, которые в России назревали и отчасти шли, вели к скоропостижному обвалу, который все вменяемые силы отодвигали врозь — и тем самым приближали как могли. Государь — семейственностью, кадровой чехардой и распутинщиной, Столыпин — своими виселицами, левые интеллигенты — словоблудием, священники — надеждами на черносотенцев.
При всем тотальном различии контекстов мы опять перед той же развилкой. Задачи долгие; горизонты короткие; все действуют врозь. Большинство представителей элит убеждены, что модернизация — проблема управленческая; «правильная» тактика ведет к победе, «неправильная» — к провалу. Между тем, как показало проведенное под руководством Александра Аузана исследование «Культурные факторы модернизации» 1 , после Второй мировой на путь модернизации вступило полсотни стран, но преуспели только те, кто неуклонно работал с ценностями, с национальной картиной мира. Сохраняя своеобразие и при этом меняясь. Гонконг, Япония, Тайвань, Сингапур и Южная Корея. Не западные страны, а восточные. Не вестернизированные. Косные. Традиционные. Но решившиеся на долгие перемены. И не потерявшие себя.
Сегодня часто приходится слышать, что причина успеха данной группы стран — в исповедуемой ими конфуцианской этике. Но пока они не предъявили миру столь убедительный результат, никто не знал, что конфуцианская этика способствует модернизации. Наоборот, господствовало устойчивое мнение о «неподвижности», «неизменности» и однотипности «азиатского пути». Тут связь скорей обратная: модернизационный потенциал конфуцианства выявлен в процессе прорыва, благодаря тому, что с культурно-историческим опытом здесь осознанно работали, взаимодействовали с ним. Более того, выход на устойчивую траекторию экономического развития сопровождался во всех этих странах снижением дистанции граждан по отношению к власти, ростом статуса ценностей самовыражения, самореализации, личной ответственности за свою судьбу. Чем шире эти ценности распространялись в обществе, тем устойчивей становилась траектория экономического развития. И наоборот. Там же, где элита не работала с гуманитарной сферой, с ценностной шкалой, ничего не получилось. Самый поучительный пример — Аргентина.
Это значит, что модернизация предполагает запуск долгосрочного социокультурного процесса; если перед глазами работника стоит образ общины, а вы понуждаете его к фермерству, не надейтесь на торжество столыпинской реформы. Если честно заработанные деньги не являются мерилом успеха, производительность труда не вырастет, как ни повышай зарплату. Вопрос не в том, учитывать ли культурные факторы модернизации, а лишь в том, как с этими факторами работать. Революционно обнулять или поступательно взаимодействовать.
Сегодня нет недостатка в утопиях культурных революций, имеются трактаты об охранительной «суверенной модерниза-ции» 2 ; общего понимания того, что нам необходима поступательная культурная эволюция — нет. Как нет системных практик, основанных не на сохранении и не на разрушении, а именно на обновлении любой реальности. В том числе реальности социокультурной. Зато есть избыток архаических институтов, основанных на поддержании и воспроизводстве эталонных образцов. И нарастающий вал авангардных практик, которые демонстративно разрывают с косными образцами.
Архаична Академия наук, и никакие попытки ее реформировать ни к чему хорошему не ведут; авангардным является проект «Сколково», уникальную модель которого невозможно тиражировать; революционна природа пермского культурного проекта. Задача в том и заключается, чтобы предъявить стране и миру возможность резкого единоличного прорыва, а не в том, чтобы поставить дело научных инноваций на конвейер. Архаике найдется место в обновленной России; штучный авангард заставляет шевелиться остальных, но если не создать идеологию ненасильственного обновления всей сферы общественных отношений, экономических практик, культурных установок, то крайне сложно будет выйти на траекторию модернизации без колоссальных потрясений, без нового русского раскола.
В отличие от архаики, социальный модерн предполагает изменение реальности, последовательную работу с устоявшейся традицией, обновление ценностей и институтов. В отличие от авангарда, он не отрицает устоявшиеся модели только потому, что они существуют давно. Он воспроизводим, как сам стиль модерн, который когда-то быстро распространился по всей Европе. Авангардный «Черный квадрат» навсегда остается одним-единственным «Черным квадратом», сколько бы авторских копий Малевич ни сделал. Архаические «Грачи прилетели» Саврасова не могут быть изменены, их невозможно варьировать, только повторять. А дом, построенный в стиле модерн, может быть маленьким или большим, дорогим или дешевым; он может находиться в столицах или в глухой провинции.
В этом отношении российская традиция модернизации не враг, а в некоторых случаях союзник. Чтобы проверить, причем в максимальном приближении к реальности, насколько верны наши предположения и тезисы, было проведено социологическое исследование, основанное на опросе соотечественников, живущих и работающих в модернизированных странах или в западных компаниях, представленных в России. То есть в тех условиях, которые должны возникнуть в случае успешного запуска модернизации в России. Исследование было проведено весной 2011 года Центром независимых социологических исследований в России (Санкт-Петербург), США (штаты Мэриленд и Нью-Джерси) и ФРГ (Берлин и Северная Рейн-Вестфалия). Два главных исследовательских вопроса, сформулированных авторами:
- Существуют ли специфические культурные черты, принципиально отличающие российского работника от его коллег в ведущих странах Запада?
- Какова связь между выявленными чертами и процессами экономической модернизации?
Авторы считают, что при исчезновении внешних социально-политических, экономических и прочих институциональных барьеров молодой «креативный класс» легко раскрывает свои модернизационные возможности, на равных конкурируя с западными коллегами в рамках устоявшихся правил. И никакие факторы традиционности им в этом совершенно не мешают; наши культурные установки вполне совместимы с модернизированной средой обитания. (Хотя культурные установки помогают российским работникам в большей степени строить карьеру предпринимателей на малых инновационных предприятиях, чем карьеру исполнителей в крупных корпорациях.) А у тех, кто закончил американскую или европейскую школу, никаких специфических установок в сфере трудовой и организационной этики нет; культурная принадлежность к «русскому миру» выражена не в особенностях социального поведения, в том числе экономического, а в особом эмоциональном, эстетическом, бытовом обиходе.
Значит, если не ломать, не обнулять традицию, не идти на колоссальные цивилизационные риски и культурно-политические издержки, связанные с практикой «культурной революции», но просто убирать барьеры и втягивать людей в модернизационные процессы, то зрелая часть «креативного класса» сумеет вписать свои сложившиеся ценности и установки в новую среду и новую реальность. А что до следующего поколения, то оно станет носителем модерниза-ционных ценностей, если удастся превратить российскую школу в институт ненасильственной гуманитарной модернизации.
Между тем, если в позднесоветской модели культурно-образовательной политики торжествовал тотальный идеологический подход, то сегодня ставка сделана на столь же тотальную прагматику. Литература, история, художественное воспитание последовательно смещаются на периферию образовательных процессов. Но все замеры говорят о том, что, снижая количество часов на историю и литературу, мы не получаем взамен роста научно-технических знаний. И при этом только школа может решить политическую задачу формирования общероссийского гражданского сознания, без чего невозможно сохранение и развитие единой территории, государственного тела России. И только школа (что подтвердили и результаты прилагаемого социологического исследования) может заново и без революционных потрясений сформировать систему ценностей следующего поколения, связав установки начинающейся модернизации с культурно-исторической традицией.
Ответственны за это в первую очередь история и (в силу специфики русской культурной традиции) литература. Именно они призваны формировать картину мира, сознание сложного человека, свободного и ответственного россиянина. А сложный человек для сложного общества — это главное условие модернизации.
Именно поэтому участникам XIX ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), проходившей в апреле 2011 года, была предложена для обсуждения тема «Культура, будущее России, ее место в мире». При этом под культурой понимались не только и не столько искусство, литература, театр, сколько вся сеть общественных институтов, порождающих, сохраняющих, изменяющих, разрушающих и снова создающих смыслы. То есть и школа, и кино, и телевидение, и правовая традиция, и язык, и религия, и наука, и университетская среда, и военная мысль, и политическая философия. Все, что формирует ту картину мира, которая стоит перед глазами общества в целом и каждого гражданина в частности; все, что определяет наше отношение к реальности. А от этого отношения напрямую зависит, какие решения политиков пройдут, а какие упрутся в невидимую преграду, и либо увязнут в трясине, либо дадут непоправимую трещину.
Представители политической, дипломатической, военной элиты вместе с социологами, литераторами, педагогами, учеными-гуманитариями размышляли над тем, действительно ли существует русская культурная матрица, которая ограничивает (или предполагает?) модернизацию.
Четырем сессиям Ассамблеи соответствуют четыре раздела данной книги.
В первом рассмотрена сама проблема культурной матрицы.
Во втором поставлен вопрос о том, неизбежно ли прохождение через стадию этнокультурного национализма при вступлении страны в процесс модернизации.
В центре третьего — проблема современной школы как политического института культурной модернизации.
В четвертом говорится о языке как носителе ценностной картины «русского мира».
Каждый раздел открывается статьями основных докладчиков, продолжается наиболее интересными фрагментами дискуссии (этот подраздел мы называем «Контекст»), завершается «особой папкой», в которой использованы материалы, подготовленные к Ассамблее обозревателем «Российской газеты» Евгением Шеста-ковым — интервью, отрывки из статей на заданную тему.
Почему мы убеждены, что сегодня вопрос о культуре приобретает политическое значение? По той простой причине, что культура формирует ту картину мира, которая стоит перед глазами большинства и с которой оно подсознательно сверяет все свои жизненные решения. Все, что расходится с картиной мира, отторгается; все, что совпадает, получает эффект усиления. Есть американская картина мира, в ней индивидуализм стоит на первом месте, гордость за свободную Америку — на втором, вера в то, что каждый может попытаться сам построить свою судьбу — на третьем, но и про веру в Бога забывать не следует. Есть скандинавская картина мира, коллективистская, во многих отношениях зеркально противоположная американской. Только попробуй противопоставить себя гражданскому обществу, самоуправляющемуся коллективу — мало не покажется; высшая ценность — не рисковать, не выламываться из общего ряда, а умение договориться обо всем и железно соблюдать договоренности. Есть республиканская французская; есть умеренно-монархическая испанская; есть либерально-католическая в Чили… Те политические, экономические, военно-стратегические, инженерные, экологические решения, которые запросто проходят в США, потому что соответствуют общепринятым взглядам данного общества, будут отвергнуты в Дании или Швеции. Равно как и наоборот. Тот хомут, который по шее французу, будет немедленно сброшен чилийцем. Поэтому сейчас, когда модернизация кажется единственным шансом для России выскочить из цивилизационного тупика, необходимо выяснить: какова же наша картина мира? в чем заключается наша традиция? каковы ее константы и есть ли они в принципе?
Сработать быстро — не получится. Собственно, поэтому и нужен новый общественный договор, что только на его основе можно попытаться выиграть у истории катастрофически сокращающееся время. Если отказаться от него — есть твердая гарантия, что ничего не выйдет. Если попытаться выбрать лозунг «перемены без насилия», то никаких гарантий нет. Ни плохих, ни хороших. Есть только шанс. Но, как говорится, Абрам, дай Богу шанс, купи лотерейный билет.
1 Культурные факторы модернизации. А.А. Аузан (руководитель проекта), А.Н. Архангельский, П.С. Лунгин, В.А. Найшуль. При участии: А.О. Ворончихиной, Н.В. Зверевой, А.В. Золотова, Е.Н. Никишиной, А.А. Ставинской // Фонд «Стратегия 2020». Ссылку на слайды презентации см.: http://www.strategy-2020.ru/ru/article/modernizatsiya-gumanitarnyi-blok.
2 Ср.: Фролов К. Третий Рим: суверенная модернизация. // KM.ru 2010. 26 октября ( www.km.ru/news/tretij_rim_suverennaya_moderniza); Ашкеров А. Модернизация как культурная революция // Полит. ру. 2011. 1 марта ( www.polit.ru/article/2011/03/01/aa010311 ). Разумеется, мы не ставим эти работы на одну доску, уровень их несопоставим, но само наличие таких проектов характерно.
1. Русская культурная матрица: тормоз на пути развития или его опора?
Основные вопросы раздела :
- Актуально ли понятие «культурная матрица»? Что мы вкладываем в него? Верно ли, что «русская матрица» навсегда определила наш путь: «Государство сильнее общества. Личность вторична. Внешний мир враждебен»? Или это искаженное представление о ней? Что входит в ядро русской культурной матрицы? Какие ценности, какие идеи? Как она влияет на позиционирование России в мире? Кто мы с историко-культурной точки зрения:
- восточная деспотия с европейскими корнями?
- европейская держава с восточным вектором развития?
- неопределившаяся, застрявшая на полпути страна?
- особое культурно-государственное явление, которое никто (в том числе мы сами) не в состоянии понять?
- Исходя из какой предпосылки нам выстраивать стратегию внешней политики? Что было в нашей истории, в нашем социальном опыте по-настоящему всемирного, кроме великой русской литературы? Несколько тяжелых войн, которые Россия не проигрывала — в отличие от большинства европейцев? Революция? Космос? Ядерное оружие?
- Совместима ли русская культурная матрица с ценностями современной цивилизации — то есть ценностями развития, обновления, индивидуальной ответственности и свободной конкуренции? Не слишком ли часто ссылками на неизменность матрицы и незыблемость традиции политический класс оправдывает застой: «В России всегда так было, а значит, никогда ничего не переменится»? Можно ли менять матрицу, не разрушая свою идентичность?
- Есть ли примеры в новейшей мировой истории, когда именно опора на национальную культурную традицию в ее развитии стала основой возрождения страны и цивилизации? Есть ли в нашей культурно-исторической традиции то, на что может опереться политика модернизации? Иными словами, возможна ли модернизация через культуру?
- В какой мере картина мира, создаваемая культурой, влияет на реальное существование страны, на мотивации людей, на трудовую этику, на взаимоотношения с другими народами? Или это не более чем пиаровский миф?
Сергей Лавров
Культура, будущее России и ее место в мире
Прежде всего хотел бы поблагодарить Сергея Александровича Караганова и в целом руководство совета за приглашение и за выбор темы. Думаю, что актуальнее трудно было бы сформулировать повестку дня сегодняшних заседаний. Время, в котором мы живем, — время больших вопросов. Если ими не заниматься, то и не понять, что происходит вокруг нас. Культура — это первооснова национального бытия, своего рода пружина исторического процесса. Не случайно такой мыслитель, как Збигнев Бжезинский, обращался к культурологическому методу О. Шпенглера, когда реагировал на политику Джорджа Буша-младшего призывом поставить вопрос о необходимости выработки международным сообществом общего видения современной эпохи.
Мы разделяем такой подход. История — это реализация конкретного культурного типа, реализация мироощущения. Есть такая русская пословица: «Посеешь характер — пожнешь судьбу». Соответственно, применительно к России осмысление нашего внутреннего состояния, международного положения страны, внешней политики вполне уместно начинать с культуры. Могут быть самые разные суждения, поэтому еще раз хочу отметить, что я сейчас выступаю не как министр, а как член СВОП. Хотя и не очень часто принимаю участие в мероприятиях совета, но раз в год стараюсь здесь бывать.
У России, я в этом убежден, будущее есть. Это будущее — великое, как была и остается великой наша история. А.С. Пушкин писал, что историю нам дал Бог, и, наверное, она не могла быть в принципе иной. Думаю, что в истории нет ничего случайного, она сама выбирает своих героев. Есть, конечно, развилки, когда возможны различные варианты действий, но и в этих случаях во многом все решает культура и, наверное, эпоха, в которой происходят те или иные события.
Французская революция дала выход той энергии, которая копилась в обществе со второй половины правления Людовика XIV. Сходная энергия копилась в российском обществе, которое большую часть XVII века дремало. Ответом на вызов петровской модернизации, которая и была выходом той копившейся энергии, по словам Л.Н. Толстого, были гений А.С. Пушкина и вся русская культура XIX века. Когда мы вошли в европейскую политику при Петре Великом, страна была призвана играть свою очень важную, я бы сказал, одну из ключевых ролей в поддержании европейского равновесия, как оно тогда понималось. И как оно продолжало пониматься вплоть до биполярной эпохи и до холодной войны. Думаю, что миссия такого балансира, скорее всего, уже выполнена, что Европа более не нуждается в равновесии силы. Кстати, исторический Запад тоже не так уж един, и это связано не только с теми проблемами, которые все больше проявляются в ходе европейского строительства, но и во многом с мирным подъемом Германии, которая уже выходит из состояния, когда ее нужно держать «пониже».
Одна из черт нашего национального характера — это способность широко взглянуть на вещи. Русская интеллигенция всегда этим славилась. И, наверное, такая широта натуры в равной степени объясняет и отрицательное, и положительное в нашем историческом опыте, в нашем историческом бытии, объясняет, в частности, культурную глубину, когда на поверхности далеко не все видно. Давайте вспомним ту внутреннюю свободу, «кухонную» свободу, в которой жили многие из нас в советское время и без которой, наверное, не было бы современной России. Думаю, что эта глубина отличает российский народ от тех, у кого вся картина исчерпывается тем, что просто видит глаз.
Выскажу свое мнение: я уверен, что Россия — это особое культурно-государственное явление, и его абсолютное постижение стало бы концом России точно так же, как абсолютное постижение природы человека, видимо, означало бы конец человеческой цивилизации. Наверное, это и имел в виду Ф.И. Тютчев, когда говорил, что умом Россию не понять. И.С. Тургенев, кстати, тоже говорил, когда переписывался с П.Я. Чаадаевым, о «текучести», «газообразности» русской жизни. Хотел бы выделить одну мысль Георгия Адамовича, который в сборнике «Одиночество и свобода» писал: «Все можно допустить, во всем можно ошибиться, только не в этом, наверно: это, то есть гнет, казарма, насилие находилось и находится в жесточайшем разладе с самой сущностью России, с «русской душой», как она отразилась в лучшем, что мы вспоминаем из прошлого». И он делает интересный вывод: «То, что нехотя, хмуро, угрюмо Запад постепенно выпускает из рук, Россия должна бы когда-нибудь вернуть в преображенном виде, умудренная всем своим опытом, научившаяся многому такому, чего он и вообще никогда не знал». Ф.М. Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи говорил о «всемирной отзывчивости России», о ее «всечеловеческом» призвании. Он усматривал в этом надежду на восстановление единства европейской цивилизации, причем отнюдь не противопоставляя Россию Европе.
Россия, кстати, со времен Петра практически всегда разделяла судьбу Европы. Вместе со всеми она вступила в сумеречный этап развития континента, причем период между двумя мировыми войнами, в силу сумбурности европейской политики, неспособности европейской мысли дать ответы на вызовы времени, я бы считал возможным считать начальным этапом холодной войны с ее санитарными кордонами и выборочными по классовому признаку гарантиями безопасности. Думаю, что мыслить категориями какого-то особого, неевропейского пути России — значило бы отказываться от огромной части нашей собственной истории, начиная с того же Петра. Давайте не будем забывать, что творчество А.С. Пушкина было не только самобытным, выражавшим народный дух, но и одновременно находилось под сильным влиянием европейской культуры.
Русская культурная матрица, думаю, вполне совместима с ценностями европейской цивилизации, если не отрывать эту матрицу и саму европейскую цивилизацию от христианских корней. Все мы помним, что в Евросоюзе, когда еще писалась конституция, которая потом трансформировалась в Лиссабонский договор, было принято политическое решение — не упоминать о христианских корнях Европы. Но, не уважая свою собственную историю, в том числе религиозные корни, трудно уважать религиозные убеждения других. И мы в этом убеждаемся, когда видим, что происходит с так называемым мультикультурализмом.
Всегда, когда того требовали обстоятельства — в эпохи реформ, в эпохи суровых испытаний — российское общество выдвигало людей самого разного звания, которые реализовывали ценности развития, обновления, ценности индивидуальной ответственности. При этом они исходили прежде всего из патриотических побуждений, брали на себя ответственность за судьбы страны. Так было и при Петре, при Екатерине, так было, когда боролись с Наполеоном, Гитлером, в Первую мировую. Но одновременно это проявление патриотизма все равно шло в русле общеевропейских интересов, когда, например, в начале Первой мировой руководство Генштаба сделало все, чтобы не позволить сорвать уже объявленную мобилизацию и без опоздания начать боевые действия в Восточной Пруссии. И это во многом шло в русле интересов всего европейского континента.
В основе наших достижений в истории всегда присутствовала опора на национальную культурную традицию, и именно так было в те периоды, когда страна возрождалась. Кем бы мы были сейчас, если бы не имели доступа к русской классической литературе? Тот же Ф.И. Тютчев писал: «Русский народ является христианским благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которые составляют основу его нравственной природы». Кстати, он последовательно выступал против цензуры и говорил, цитирую: «Везде, где свободы прений нет в достаточной мере, нельзя, совсем невозможно достичь чего-либо ни в нравственном, ни в умственном отношении».
Безусловно, мы говорим о европейских ценностях, и христианство — это одна из таких ценностей. Убежден, что нужен общий ценностный знаменатель для современного мира. В ООН, в Совете по правам человека, в ЮНЕСКО мы выступаем за то, чтобы правозащитные дискуссии учитывали, помогали углубленно понимать такие традиционные ценности, как достоинство, ответственность, свобода — ценности, которые, как я понимаю, разделяются всем нормальным человечеством. Ни реформации, ни революции, ни просвещение, ни материализм, ни социализм не уберегли Европу от ее катастроф, прежде всего трагедий XX века, которые Россия была обречена разделить со всеми другими европейскими странами. Опять напомню Ф.И. Тютчева, который писал, что реформация с водой выплеснула и «ребенка» — само христианское учение. К этой теме он неоднократно возвращался, и думаю, что сейчас она тоже весьма актуальна.
Другой важный момент — это вопросы так называемой политической целесообразности, об использовании которой в Советском Союзе мы прекрасно помним и которую активно применяют американские администрации. О ней говорил еще М. Робеспьер, который называл ее «политической моралью». Политическая мораль в виде политической целесообразности по-прежнему активно употребляется во внешней политике, прежде всего нашими западными партнерами. Если хотите, я бы это сравнил с попыткой управлять правдой. Ясно, что у нас тоже есть такое искушение, порой оно появляется, но заверяю вас, что мы стараемся его в себе побороть.
Напомню о высказывании Мадлен Олбрайт, которая в одной из своих книг говорит о необходимости для Запада обратиться к столь же глубоким вопросам, к которым обращаются другие культуры и цивилизации, и прямо называет такие трансцендентные вопросы, как история, самобытность и вера. Думаю, нам это хорошо понятно. Когда сталкиваешься с фанатизмом типа сожжения Корана во Флориде и потом видишь последствия этого «акта самовыражения», то невольно задаешься вопросом: в каком веке мы живем? Кстати, понимание того, что дехристианизация Европы — это уже светский перебор, постепенно приходит, и в качестве примера приведу решение Европейского суда по правам человека по так называемому делу «Лаутси против Италии», где Россия выступала одной из сторон, и наша правда победила.
Мы сейчас говорим о модернизации, об этом тоже нас президиум просит высказаться. Убежден, что она возможна только через высокую культуру, и никак иначе. Модернизация должна укрепить ту основу, которая у нас существует в виде истории последних трех столетий. Но, конечно, модернизация модернизации рознь. По моему глубокому убеждению, для России модернизация не должна и не может означать вестернизацию. Мы будем заимствовать часть общего наследия европейской цивилизации, но ту часть, которая, кстати, была во многом создана при нашем участии и которую вобрал исторический опыт. Все остальное было отсеяно как неудавшийся эксперимент. Насколько сложно вестернизироваться, показывает пример Японии. Конечно, Япония — не Россия, но пример ее вестернизации, причем неоднократной, далеко не позитивен с точки зрения развития этой страны, которая сейчас находится в достаточно глубоком кризисе.
Единство европейской культуры, цивилизации — это то, что мы бы хотели видеть. В истории есть немало примеров, когда проявлялись элементы конвергенции. Это было и в истории прошлого века с известной периодичностью — назовем реформы Ф. Рузвельта, весь межвоенный период, союзнические отношения в ходе Второй мировой войны, разрядку и нынешний период, когда новая Россия приняла фундаментальные ценности рыночной экономики и широкопредставительной демократии. Кстати, частью этих ценностей широкопредставительной демократии или, скажем, параллельным с ними продуктом западноевропейского развития периода холодной войны стала модель социально ориентированного развития экономики, другими словами, социализация экономики, которая проходила во многом, если не прежде всего, как ответ на социалистический вызов Советского Союза. Мы не должны стесняться того, что в нынешнюю модель, которая, наверное, наиболее успешна, в модель социально ориентированной рыночной экономики мы внесли, пусть косвенно, но все-таки свой вклад.
Еще раз немного о Федоре Ивановиче Тютчеве. Он был против раскола Европы и говорил о том, что Восточная Европа — «законная сестра христианского Запада». Отказ России в нравственной силе, которая собственно и является главным элементом того, что мы сейчас понимаем под «мягкой силой», был главным в отрицании Западом европейских прав нашего государства. Но победы в отечественных войнах под Бородино, над Гитлером, безусловно, были нравственными победами, и отрицать этого нельзя. Многие сейчас это просто замалчивают, как замалчивают и то, что в последней войне мы победили вопреки тоталитаризму, вопреки преступлениям Сталина, то есть война освобождала освободителей. И Сталин это прекрасно понимал. Отсюда и то, что он стал «закручивать гайки» сразу после окончания войны.
Насчет современного российского общества. Хотел бы обратить внимание на статью Маши Липман, недавно вышедшую в Moscow Times, где она говорит, что русские сегодня пользуются фактически безграничными индивидуальными свободами. Люди с энтузиазмом занимаются своими частными делами, не особенно обращая внимание на сферу политики. Наверное, это очень счастливое состояние, когда человек доволен своей частной жизнью. Дальше она уже пишет по поводу политической активности населения и, по сути дела, призывает к чему-то вроде социальной инженерии, говорит, что мы должны поскорее пойти на те реформы, которых от нас ждут вовне. Я уверен, что этой аудитории не нужно говорить о том, сколько понадобилось Франции, включая два поражения в войнах, сначала со всей Европой, потом с Пруссией, чтобы установить более или менее демократическую форму правления. Две мировые войны — это та цена, которую сама Европа целиком заплатила за нынешние ценности демократии. Я убежден, что людям просто нужно время, чтобы назаниматься своими частными делами, наездиться, наесться. Интерес к политической жизни неизбежно придет, когда человек будет себя ощущать достойно.
Мы, конечно, вносим внешнеполитический вклад в модернизацию, это прежде всего расширение пространства свободы в международных отношениях. С остальными странами Евро-Атлантики нас объединяет очень много кризисных явлений, которые сейчас происходят, и та же мысль З. Бжезинского о том, чтобы сообща подумать над содержанием современной эпохи, становится достаточно актуальной. В этой связи хотел бы сказать, что, если европейская цивилизация нуждается в новом переформатировании, а, судя по всему, этот вопрос все больше и больше будет стучаться в дверь, во-первых — слава Богу, а во-вторых, это будет происходить в условиях куда менее катастрофичных, чем те, в которых Европа менялась прежде. Это будут условия новые, уникальные, и ясно, что требуется интеллектуальная и политическая открытость. Пока мы ее не видим со стороны наших партнеров. Отсутствие такой открытости лежит в основе очень многих недоразумений и проблем евроатлантической политики последних двух десятилетий. Например, по-прежнему считают, что Россия должна вступить в Запад, как в колхоз, в партию. Не думаю, что это реалистично. Хотя, конечно, нам самим надо вырабатывать такую парадигму действий, которая будет учитывать наши собственные интересы, но которая все в большей степени будет учитывать и то, как себя ощущают наши западные партнеры.
Здесь я хотел бы поблагодарить Сергея Александровича Караганова за его статью «России везет». Она достаточно прагматична и, по-моему, совершенно прикладная в том, что касается наших дальнейших внешнеполитических действий. Но если мы возвратимся к теме объединения Европы на основе общих ценностей, то мы хотим, чтобы у каждой личности было достоинство, хотим, чтобы эти достоинства были признаны равными для всех личностей. Наверное, и равенство государств должно не только декларироваться в различных документах, но и применяться на практике. В данном случае нас интересует прежде всего Европа, в которой мы живем. Философия неравенства — одна из главных проблем в наших отношениях с Западом. Причем она продвигается с Запада к нам, и нам дают понять, иногда косвенно, иногда в лоб, что отношения равенства возможны только между государствами, исповедующими общие ценности, то есть российская демократия, молодая, еще не окрепшая, постоянно развивающаяся методом проб и ошибок, должна быть сертифицирована извне. Эта логика присутствует и в нашем диалоге с Евросоюзом, и в наших отношениях с НАТО, которые все больше и больше начинают вовлекаться в «демократизаторские» дискуссии. Эта же философия присутствует в ОБСЕ, где страны Евросоюза выступают единым блоком вопреки всем договоренностям о том, на каких основах должен развиваться общеевропейский процесс. Принцип «одна страна — один голос», конечно, выражается в действующем в ОБСЕ правиле консенсуса, но по вопросам, которые требуют согласования и выхода на общеприемлемые практические договоренности, Европа выступает блоком, как учитель, который экзаменует учеников, оказавшихся с ним в одном помещении.
Мне кажется, отсутствие структуры, которая Европу объединяла бы (а ОБСЕ пока по большому счету Европу разъединяет), мешает Европе в отношениях со многими другими, Западной Европе в отношениях с нами и Европе — с остальным миром. Мы эту проблему хотели бы все-таки решать, обеспечивать нашу культурно-цивилизационную совместимость с остальным миром, это абсолютно естественный процесс. Все это требует расширительного толкования ценностей Европы, включая и плюрализм мнений, и право на инакомыслие, в том числе инакомыслие в международных делах. Я имею в виду ту обструкцию в СМИ многих западноевропейских стран, которой подверглась Германия, проголосовав в Совете Безопасности по Ливии не так, как проголосовали США и другие ведущие страны Запада. Я убежден, что в корне ошибочен тезис о присоединении России к Западу, как если бы мы должны были просто взять и сказать: все, мы теперь будем действовать только как вы! Не забудем о том, что и сам Запад в таком состоянии, когда даже если бы и была такая задача, не очень хочется присоединяться. Поэтому речь должна идти о встречном движении, а не о вливании нас в них.
Думаю, что модернизационное партнерство, которое мы сейчас продвигаем в отношениях с Евросоюзом, с отдельными странами Европы, с Соединенными Штатами — это как раз очень неплохой инструмент, который должен помочь двигаться навстречу друг другу. Модернизация — не исключительно российский проект, он в такой же мере общеевропейский. Напрашивается параллель с реформами Петра, который тоже свои модернизационные программы реализовывал с привлечением остальной Европы. Инициативы, которые мы выдвигаем, — это и Договор о европейской безопасности, когда все должны быть равно защищены, у всех должны быть равные гарантии безопасности, это и наша инициатива по противоракетной обороне, которая на практике предлагает доказать, что наши западные партнеры будут готовы обеспечить неделимость безопасности. Доказать не на словах, не в декларациях, как это было сделано, а в реальном проекте, который, если будет реализован с гарантиями ненаправленности этих систем против кого-либо из европейских, евроатлантических государств, станет прорывом к качественно новым отношениям. Иначе все будет организовано на основе той логики, которой сейчас придерживаются в альянсе, а именно — внутри НАТО гарантии безопасности юридические, а для остальных мы будем обещать, что мы вас тоже будем как бы учитывать в дальнейшем.
Все эти инициативы — не просто громогласная попытка напомнить о себе, это действительно вещи, от решения которых в ту или другую сторону во многом будет зависеть, куда пойдет история. У нас сейчас действительно есть исторически беспрецедентное окно возможностей. Как мы его используем, пока предсказать трудно. Мы стараемся делать все, чтобы это окно не захлопнулось. Сергей Александрович Караганов призывает нас в своих трудах напрягать мозги и волю. Спасибо.
Даниил Дондурей
О так называемых российских культурных матрицах
Когда ты сталкиваешься с тем, что гаишник, стоящий на «хлебном» повороте дороги, сотрудник налоговой службы, специально делающий ошибки при выдаче обычной справки, или судья, выносящий «нужное» решение после формального соревнования сторон, руководствуются одними и теми же интересами, связанными не с самим этим делом, не с его содержанием, а с проектируемой в связи с ним их личной добычей, то понимаешь: материальная и символическая составляющие нашей культуры представляют собой единое целое. Тут безотказно и автоматически срабатывают некие универсальные, уникальные, неформальные, пронизывающие все и вся правила и способы деятельности. Именно их, блестяще описанных Гоголем и Салтыковым-Щедриным, ты легко узнаешь во многих повседневных ситуациях и живых картинках 2011 года.
Эти малоизученные константы всеобщего действия непонятным образом, но буквально, тотально воспроизводят элементы каждому с рождения знакомой системы жизни — в экономике, в действиях власти, в разрешениях морали, в типе личности, способах поощрения и наказания, в тех самых условиях существования, в которых, к примеру, «властьсобственность» у нас всегда пишутся в одно слово, а губернаторов, точно так же как и некогда воевод, сажают «на кормление».
Система российской жизни (СРЖ) на самом деле — это целостный, очень устойчивый, идущий сквозь века мир часто неосознаваемых культурных предписаний и поведенческих практик. Он давно отлажен, достаточно эффективен, постоянно изменяется, принимает самые современные обличия, приспосабливаясь к любым вызовам времени. При этом в качестве внеисторических (точнее, протоисторических) констант социального действия эти неформальные практики в сущности не исследованы, концептуально не отрефлексированы, даже табуи-рованы. Но каждый ребенок в России прекрасно знаком с этими правилами, автоматически и прагматично ими пользуется, поскольку, в отличие от своих западных сверстников, прекрасно знает, что говорить можно одно, думать другое, делать третье, подразумевать четвертое, а в голове держать еще десятки разных контекстов. И все это в конце концов приводит к повсеместному пользованию теми самыми сверхустойчивыми образцами действий, которые Александр Архангельский называет «матрицами» российской культуры.
Прежде чем высказать несколько своих гипотез на эту сверхсложную междисциплинарную тему, я хотел бы обратить внимание на два, как мне кажется, напрямую связанных с этим методологических обстоятельства.
Во-первых, во всех начальственных, экономических, политических и социальных пространствах у нас принято воспринимать культуру исключительно в узком смысле этого понятия — только как создание особых произведений, разного рода артефактов, предназначенных для сферы досуга. Как жизнь художественных идей и гениев. Культура, по всеобщему убеждению, — это все то, что относится к попечению Министерства культуры, контенту телеканала «Культура» и т.д. Существуют какие-то негласные конвенции относительно того, чтобы не использовать это понятие в широком смысле, как «выращивание», как производство, трансляцию и усвоение смыслов — ценностей, представлений, архетипов, способов поведения, норм, запретов, стереотипов, традиций. Не привязывать их к объяснению реальной, эмпирической, «настоящей» жизни. Культура — это как бы все то, что осталось после экономики, политической деятельности, внешней и оборонной политики, после социальных отношений. В этом плане она даже не связывается с той или иной концепцией человека.
Такая негласная методологическая договоренность есть практически у всех — у граждан, у администраций, у правозащитников, у специалистов по национальной безопасности, у дипломатов, художников, ученых и, конечно, у макроэкономистов, в большинстве своем либералов. Нет привычки рассматривать массовое функционирование общественно значимых представлений, а следовательно, и оценивать работу «фабрик мысли». Даже когда у нас речь идет об образовании, оно не воспринимается как технология трансляции культуры, пространство операции со смыслами. Именно поэтому, когда наши лидеры говорят о развитии страны, последняя сфера, которая, на их взгляд, ориентирована на интеллектуальные функции, на формирование личности — это образование. Практически никогда — культура.
Во-вторых, невнимание к культуре в ее широком смысле приводит к тому, что три связанных один с другим острейших кризиса современного массового сознания в России редко реф-лексируются нашими СМИ, не воспринимаются как насущные гражданские и политические драмы. А ведь стоящие за ними процессы, взаимоусиливая друг друга, ведут к очень серьезным проблемам общественного развития.
Речь, конечно, идет о колоссальном мировоззренческом кризисе, который в постсоветское время уже привел к своего рода распаду нашей страны на две ментально конфликтующие общности. Одна — самая большая (от 60 до 80 процентов населения), живет в этаком — по сути понимания происходящего — протофеодальном времени. Она не считывает цивилизационные вызовы 2011 года, просто не способна это делать. Другая часть граждан — по сотням социологических исследований, проведенным в последние 10 лет, — это от семи до 25 процентов населения — те, кто в мировоззренческом плане действительно живет в наши дни. Остальные не определились. Я имею в виду, в частности, такие характеристики, как массовое представление об экономическом устройстве нашей страны. Почти две трети соотечественников до сих пор не принимают рыночные отношения, частную собственность, ненавидят своих работодателей, 57 процентов во время кризиса 2008 года хотели бы немедленного введения жестких государственных цен, госконтроля за хозяйственными отношениями, до половины населения согласны на пересмотр проведенной в 1990-е приватизации, на национализацию. Подавляющее большинство соотечественников сохраняет огромное уважение к социализму, устоям жизни при советской власти. Трудно было бы представить, чтобы в 1937 году люди бы столь же положительно относились к монархии, Николаю II и свергнутому строю.
Сегодня на воспроизводство и утверждение социалистических отношений работают практически все культурные институции нашей страны, большинство СМИ, от радикальных левых до либеральных ньюсмейкеров, таких, например, как кумир российской интеллигенции Леонид Парфенов. Это относится, конечно, и к образу Иосифа Виссарионовича. В апреле 2011 года лишь около трети населения не принимало исторических заслуг Сталина перед родным отечеством.
И наконец, более 70 процентов россиян считают нынешнюю жизнь несправедливой!
Есть не менее показательные оценки и ценности, имеющие прямое отношение к культуре. Например, в ноябре минувшего года в Москве было проведено исследование отношения столичных жителей к инородцам, к иноверцам. На каких-то символических демонстрируемых уровнях оно достаточно политкорректно. Москвичи знают, что надо публично говорить. Но когда им задаются контрольные вопросы: «Вы согласны, чтобы эти люди жили с вами на одной лестничной клетке?» — более 60 процентов не хотели бы, чтобы представители другой национальности, культуры, вероисповедания, традиции существовали с ними «дверь в дверь». И самое показательное — не хотят иметь рядом «чужих» даже больше, чем тех, кто болен СПИДом, кто вернулся из тюрьмы, больше, чем наркоманов, бомжей или хронических алкоголиков. Вот реально работающие коды идентификации больших социальных групп, идеологические костыли национальной идентификации.
Люди не подпитываются актуальными духу времени идеалами, адекватными моделями будущего, не получают мотиваций по поводу того, ради чего стоит жить. И самое главное: массовая культура, не говоря уже об авторской, не принимает нынешнюю жизнь! По сути не справляется со своей основной миссией. В качестве мощного тормоза в этом плане действуют экономические механизмы финансирования СМИ через рекламу. Уже 15 лет они вынуждены зарабатывать на так называемой негативной селекции содержания как наиболее рентабельной технологии.
Второй кризис, конечно, еще более табуированный, напрямую связанный с мировоззренческим, — это кризис морали. Здесь у нас ситуация еще хуже, чем в идеологии, поскольку в настоящее время российское население никому не доверяет: 59 процентов граждан — только собственной семье. У нас сегодня в сущности отсутствует чувство социальной солидарности. На телевидении в программе «Брачное чтиво» (канал ДТВ) муж заказывает слежку за своей женой, жена — за мужем. Итоги выявления «картин мира» молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, того, как они понимают свою жизнь, ее перспективы — приговор моральной атмосфере нашего общества. Более 60 процентов опрошенных в конце 2010 года считали, что их личное жизненное благополучие не зависит от собственных усилий, от настойчивости личных действий, от твоего трудолюбия, одаренности, ответственности. Молодые строители инновационного общества воспитываются как рантье и субъекты разных видов государственной опеки.
И, наконец, третий кризис нынешнего состояния культуры — психологическое здоровье российского общества. Кроме самоубийств, где мы, как известно, находимся на втором месте в мире, по многим другим аналогичным показателям — также в лидерах. И по количеству самоубийств среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет, и по заболеваниям органов чувств, и по потреблению героина, объему детской порнографии в интернете, по количеству смертей на 10 тысяч населения… На психике в первую очередь сказывается то обстоятельство, что подростки лишены героев, идеалов, положительных романтических прообразов. По депрессии они могут соревноваться только со своими дедушками — мужчинами старше 55 лет, которые умирают не только от «паленой» водки, травматизма или пренебрежения к собственному здоровью. Есть очень интересные международные исследования, согласно которым наши пожилые люди мужского пола уходят из жизни в том числе и в результате психологических факторов, в частности, от отсутствия. жизненного драйва. У них исчезают, изнашиваются индивидуальные практики успешного обыденного существования.
Если столь очевидные кризисы в сфере культуры публично не рефлексируются, то тем более вне пристального внимания нашего общества остаются те ее основания, которые можно отнести к национальной ментальности. Она полностью огорожена, закована в латы академических штудий по разным аспектам этнографии и антропологии. Обозначу лишь некоторые свои гипотезы, касающиеся основной темы — неформальных протоисторических культурных констант российской жизни, слепки которых мы легко можем увидеть в настоящем времени.
Одна из особенностей программирования нашей национальной жизни — она словно избегает знания о самой себе. Будто и не нуждается в достоверной информации относительно собственной природы, скрытых механизмов деятельности, того, что называют «российской спецификой». Тут часто заведомо негативная оценка срабатывает как негласный запрет на соответствующие исследования. Не случайно же у нас так мало работ, безоценочно анализирующих технологию российской коррупции или рассматривающих реальные функции и эффективность воровства.
Достаточно начать с очевидного: с протофеодального по своей сущности функционирования власти. В России она не только беспредельно персонифицирована, но и находится выше всех других систем управления. Причем этот принцип утверждается не в законах, декларациях, а на практике. В соответствии с этим формируются многие социально-психологические архетипы поведения российских граждан, связанные с ответственностью, выработкой программ, с реализацией задуманного. Вот мы обсуждаем с кинематографистами, как нужно разумно потратить три бюджетных рубля, и единственное, что они могут предложить: давайте напишем письмо президенту или премьеру. Их никто этому не учил, но такой способ аппаратного мышления постоянно воспроизводится. Они прекрасно понимают, что человек у нас не воспринимается как живой, самостоятельный, вдохновленный или разочарованный, несмотря на все заверения великой русской литературы Золотого и Серебряного века о том, что он гордый, сильный и «всемирно отзывчивый». По действующей культурной модели индивид часто находится в невидимой крепостной зависимости, является исключительно объектом социального попечения.
Очевидно непременное сосуществование в нашей культуре двойного сознания, двойного языка, двойного мышления, присутствия двух народов в составе одного. Обязательное российское «два в одном»: нужно гордиться государством и одновременно воровать у него, служить ему и его ненавидеть. Нужно быть уверенным, что мы окружены, особенно на Западе, хитрыми и злокозненными врагами, но при этом хотим туда переехать, если в России становится особенно тяжело жить.
Тут, можно сказать, повсеместна «жизнь по понятиям», а мир специфического тюремного сознания — мощный, многомерный, касающийся отдельного языка, связей, реакций — есть способ неписанного доверия, возникающий в ответ на недоверие в официальных отношениях, зафиксированных в законах и постановлениях. Пресловутое «договоримся» пронизывает все сферы экономических, политических, социальных связей, а основные институты мысли ежесекундно воспроизводят этот специфический по своему происхождению тип сознания зоны.
Все мы знаем огромное неструктурированное количество поведенческих предписаний, спрятанных в метафорическом словосочетании «специфика российской культуры». Тут и упование на «авось», на «как-то все образуется»; повсеместное устройство фасадов; желание не сделать, а «доделать», «дойти», «досмотреть», «достроить»; ответственность не за взятые тобой обязательства, то есть не моральная, а персоналистская, в первую очередь перед начальством; неуважение к закону, но приятие лжи; терпимость к некоторым формам воровства, к демонстрации насилия; коррупция как доверительная коммуникация; доведение любого дела до кризиса и затем — мобилизация, его героическое преодоление; хамство и алчность под прикрытием «душевности».
Самое простое и ошибочное тут — обидеться на очевидную негативность описания этих моделей, посчитать их «очернением» и в очередной раз отказаться от серьезного, безоценочного изучения эффективно действующих в каждом миллиметре российской жизни практик.
То, что некоторые исследователи называют матрицей, на самом деле всего лишь образ тех воспроизводящихся устойчивых кодов, формирующих культурное пространство российской реальности, которые пока трудно как-то назвать. Может быть, это особые ментальные (мотивационные и поведенческие) комплексы, которые условно разнесены по академическим наукам. Они существуют где-то в диссертациях, в специальных книгах, но вы не найдете публично рефлексируемых текстов, которые бы обучали людей успешно осваивать правила все той же жизни «по понятиям». Не было даже попыток собрать своего рода культурологическую «таблицу Менделеева» подобных неформальных образцов деятельности. А она, мне кажется, все-таки может быть создана. Люди же замечательно ими в своей обыденной жизни пользуются. Странно было бы думать, что их сила в формальной неописан-ности, в табуированности.
Я убежден, что российский этнокультурный мир невероятно креативен. Не случайно самый выдающийся профессиональный художник в нашей стране — по своим возможностям, ресурсам, творчеству, результатам — это, конечно, бухгалтер! Выдающийся профессионал, он буквально творит невидимую родную реальность. И все участники экономических связей готовы воспринимать мастерство его порой фантастических отчетов. Находятся в сложных конвенциях по считыванию тех подчас несуществующих миров, которые он с блеском «рисует».
Мне непонятно, почему мы не пытаемся осмыслить колоссальные ресурсы каждого элемента этой культурной системы? Ведь только тогда мы сможем целенаправленно, эффективно и с большой пользой для страны заниматься ее продуктивными трансформациями.
Дмитрий Быков
Два в одном и третий лишний
Основная черта русской матрицы — подчеркнутая Даниилом Борисовичем двойственность. Россия — это два в одном. Наш образ — город на болоте. Болото можно для удобства назвать Со-лярисом, чтобы никого не обижать, а город мягко уподобить идеальному платоновскому государству. Соотносятся они сложно, как вообще соотносятся камень с болотом. Они разделены, из города не сделать шаг в болото, утонешь, а из болота не прорвешься в город — трясина не отпустит; тем не менее, все мы живем и там, и там. Отсюда двойная мораль. А коррупция не более чем механизм отношений между ними. Механизм откупа народа от государства. Зачем говорить «коррупция», если есть слово «традиция»? — как сказал Михаил Успенский. Мы платим им за то, чтобы они не мешали нам делать наши дела.
Болото не желает разбираться в своем собственном устройстве, но мы благодаря некоторым мыслителям, в нем зародившимся, примерно знаем основные его характеристики. Оно всегда горизонтально, оно не любит вертикалей. Для него важны земляческие, родственные, семейные связи, «Одноклассники.ру», «Со-камерники.ру», друзья по школе и т.д. Оно не эволюционирует, в нем все и навсегда сохраняется. Оно вечно недовольно и при этом не хочет никаких перемен. Оно великолепно решает непрагматические задачи и совершенно не умеет решать задачи конкретные. Как было сказано давно и не нами, на трудную задачу зовите китайца, на невозможную — зовите русского.
А город, возведенный на болоте, все это время деградирует. Деградирует и никак не распадется. Деградирует в силу коррупционности, в силу полной неспособности к конкретным действиям, в силу отрицательной селекции, на основе которой в эту верхушечную кормушку отбираются люди. Иными словами, русская матрица наиболее подробно и детально описывается повестью Стругацких «Улитка на склоне», где существуют отдельно лес и институт. Институт деградирует быстрее леса, поскольку, в отличие от леса, ничего не делает. Лес застыл в своем гомеостатиче-ском состоянии, но тем не менее тоже довольно быстро заболачивается.
Эта матрица (лес/институт; болото/город), когда все главные государственные функции непонятным образом делегированы власти, а народу остается служить для нее сырьем, весьма эффективна для феодализма. Но вызовам XX века, как мы понимаем, она не соответствует. Поэтому русская государственность была абсолютно мертва уже к 1914 году. Начиная с 1914 года она получает все более мощные гальванические удары. Самым мощным из них была русская революция, затем три волны террора. И наконец, Великая Отечественная война. Труп получал все более мощные разряды. И за этот счет ходил. Ходил до 1978-1979 года, пока не начал разлагаться на глазах.
Но тем не менее советская власть при всех своих ужасах породила один очень существенный феномен, к которому нам, как мне кажется, придется возвращаться еще неоднократно. Это феномен посредников между лесом и институтом, некое третье состояние народа, которое не власть и не народ, а так называемая интеллигенция. Среди прочего, это «третье состояние» народа маркировали барды, потому что не бывает народа без народной песни. Главные прорывы в русской истории за все время ее существования, рискну сказать ужасную вещь, были связаны с советским проектом и особенно с его последними годами, начиная с полета Гагарина, 50-летие которого пришлось на 2011-й, и кончая могучим расцветом русской культуры в 1970-е годы.
Ничего подобного тому, что мы имели в 1970-е, мы не будем иметь еще весьма долго. Тогда на доске стояла весьма неочевидная комбинация, которая в 1985 году была просто решительным движением руки сметена с доски. Мы, безусловно, должны ее заново выстроить и доиграть до конца. Есть всего два сценария появления посредника между городом и болотом, то есть полноценного интеллигента. Это либо человек из народа, который чего-то добился и выучился, как Ломоносов. Либо выходец из аристократии, который почему-то заинтересовался народом, как Толстой. Но именно такие фигуры, условно говоря, третьи лишние в бинарном противостоянии, и могут двинуть Россию куда-то вперед. Понятно, что с аристократией у нас напряженка, а бескорыстный образованный выходец из широких народных низов почти утопия, но нужно сделать все, чтобы задействовать оба сценария, причем в массовых, индустриальных масштабах. По той простой причине, что Россия больше всего преуспела в тот момент, когда интеллигенция, то есть люди с большим количеством собраний сочинений в книжных шкафах, стала составлять безусловное большинство массы. Когда к 1970 году процент людей с высшим образованием в стране впервые перевалил за 50. Это и был выход из бинарного, абсолютно бесплодного, уже не актуального сегодня противостояния массы и элиты.
Именно формированием этой новой интеллигенции, как мне кажется, мы и должны заниматься. Совершенно очевидно, что Россия, как правило, безуспешна в производстве товаров, но очень успешна в производстве сред. Производство сред, мне кажется, и должно стать главной задачей.
Каким образом? И с чего начать? С трех очевидных шагов.
Поскольку бренд «Советский Союз» сейчас не занят (я говорю о журнале, который был невероятно успешен в последние десятилетия СССР), то нам необходимо регулярное издание, нечто вроде вестника по изучению античной культуры, под названием «Советский Союз». Цель его — изучение советских гуманитарных технологий. Повторяю, хорош или плох был этот Союз в 19601970-е годы (а он был, безусловно, плох во многих отношениях), он осуществил прорыв из русской матрицы, и в этом смысле стал ее спасением. Поэтому журнал, в котором на хорошем научном и культурном уровне освещались бы проблемы 1960-1970-х годов, не гламурно, не так, как это делает Парфенов, но в открытом им направлении, — насущно необходим. Мы откатились назад от этого уровня, и в своем движении к будущему мы обязательно эту фазу еще раз пройдем.
Второе, что необходимо делать немедленно. Подготовка и попытка сформулировать тот общенациональный непрагматический проект, который мог бы сегодня быть одинаково интересным и для спонсорских амбиций элиты, и для широких народных масс для участия в нем. Я думаю, что таких проектов может быть всего два. Либо великий космический прорыв, вроде полета на Марс, либо модель лучшего в мире образования, для которого в России, безусловно, есть все резервы и традиции, но нет никакой государственной воли.
Третье, что мы должны обязательно делать. Это создание, так сказать, среды-противовеса, активная работа по производству новой диссидентской среды, которая бы имела свои бюллетени, журналы, свою сетевую культуру (у нас это в интернете уже неплохо поставлено). И предельно широкое возобновление практики детских кружков, вплоть до модельных, до самых примитивных, потому что именно из этих кружков и сред вышла вся сегодняшняя элита.
В общем, если сегодня мы сформируем новую интеллигенцию, ничего в политическом смысле делать уже не понадобится, она все устроит себе сама.
Павел Пожигайло
Матрица. Этика. Путь.
У меня единственное преимущество перед коллегами Дондуреем и Быковым: я работал в Министерстве культуры замом министра и отвечал за написание законов. К сожалению, был выдворен, и потом задумался, почему и за что. Скорее всего за то, что проекты законов слишком уж работали на эту самую культуру, что сегодня никому не нужно, даже противопоказано.
Вот характерный пример, образца 2011 года. Проходит объединенная коллегия Министерства культуры и Министерства образования. Поднимается вопрос о сохранении аспирантуры в наших заведениях культуры. На коллегию приходит около 400 человек. Руководители ГИТИСа, Гнесинки, ВГИКа, Большого театра, Табаков Олег Павлович, МХАТ, хор Попова, Свешникова; те, кто на сегодняшний день как раз и поддерживают само существование нашей культурной матрицы. Все слезно умоляли: пожалуйста, сохраните нам аспирантуру, потому что мы готовим преподавателей. Кого умоляли? Видимо, министра образования и науки Фурсенко. Но ему, похоже, было стыдно, и он не пришел. Результат четырехчасовой дискуссии, в которой нынешний министр культуры (я его отношу к лучшим министрам культуры в современной России, жаль, не с ним пришлось мне работать) полностью солидаризовался с художественной элитой, нулевой. Потому что люди, принимающие решения, все проигнорировали. Это и есть форма существования культуры в нашем прагматическом мире.
Мы никогда не говорим о ней в метафизическом смысле, мы намертво забыли, что она метафизична по сути. Знаете, как у нас в министерстве было? Нас обязывали считать порцию культуры на человека. В нее полагалось вписать количество существующих и финансируемых государством библиотек, закупаемых ими книг, число театров, стоимость билетов и т.д. Вот отношение. Между тем, пока культура будет для политиков и государственных мужей явлением всего лишь прикладным, хозяйственным, а значит, понимаемым в развлекательном смысле, бесполезно вслед за Даниилом Дондуреем бороться с фильмами, программами, проектами, лишенными смысла и ценностей. Рынок, власть, элита довольны, их такое положение устраивает. Хотя я убежден, что в здоровой административно-политической системе в России должно быть только два вице-премьера — вице-премьер обороны и вице-премьер культуры. Министерство образования без культуры — это образование пустоты вместо образования образа, который должен уподобляться образу Божию; это образование некого робота, и такова парадигма сегодняшней жизни. Министерство сельского хозяйства без культуры вообще ничто. У нас была такая программа — «Культура села». Все мучились: что ж туда внести?! Между тем, в сельском хозяйстве образ жизни важнее результата труда; это процесс воспроизводства цивилизации, то есть — культурный процесс. Министр сельского хозяйства по целому ряду вопросов должен быть подчинен министру культуры, потому что если мы сведем отечественный агрокомплекс исключительно к интенсивному производству конкурентоспособной продукции, то не получим положительного результата в наших природно-климатических условиях, при существующем мировом сельскохозяйственном раскладе. А если поймем, что главное для нас -чтобы на этом большом пространстве жили люди, рожали много детей, выстраивали отношения со своей землей, то есть были бы включены в цивилизационные процессы, то поменяем всю аграрную политику. И не будем спрашивать, какие статьи включать в программу «Культура села». Образование — от слова «образ»; самодостаточный труд; доступ к духовной сфере жизни — все, что этот «образ» создает и обеспечивает.
Безусловно, Министерство спорта и туризма без культуры — это накачанные люди, больше похожие на животных, чем на людей. В Великих Луках на одном из совещаний мэр сказал: вы не могли бы поговорить с министром спорта и попросить его закрыть у нас спортивный институт? Я говорю: зачем? Ответ: «Вы знаете, 90 процентов работников физкультуры, которых он выпускает, идут в бандитские группировки». Мощнейшая культивация спорта как некоей национальной идеи, столь модная сегодня у начальства, — это заблуждение. Спорт нужен для физического развития личности, для гармонии, для культуры. Он является важнейшим, но всего лишь инструментом формирования личности; в противном случае он может быть попросту опасен. Что говорить о Министерстве социального развития и здравоохранения. Если бы мы сегодня придавали то значение культуре, на которое она имеет право, у нас бы было меньше наркоманов, у нас было бы больше нормальных семей.
Что же касается отношений между церковными и государственными институциями (а значит, характера нашей культуры), то я долго думал над вопросом воцерковления страны. (Я считаю себя человеком православным, долго к этому шел, тяжело шел; теперь у меня большая семья, четверо детей.) Оно, по-моему, необычайно важно, но будет осуществляться невероятно сложно и медленно. Недавнее выступление отца Всеволода Чаплина о «православном дресс-коде» я понимаю душой, тем более что у меня когда-то было модельное агентство, и кому, как не мне, известно, что тяжело устоять, когда вокруг сплошные полуголые женщины. Но то, как это было сказано, вызвало отторжение. И, может быть, если на первых порах институции культуры возьмут на себя миссию «моральной проповеди», это будет правильно; в церковно-государственной сфере без Министерства культуры тоже не обойтись.
Второй мой тезис. Когда-то я занимался психоанализом, много изучал Фрейда и Юнга. Одна из юнговских дихотомий, так называемых базисов Юнга, образована логикой и этикой. Так вот, Россия — страна этическая. Способ мышления русского народа — этический. Православие — иррационально-этическое пространство. Все изменения, все революции в России происходили по этическим мотивам, начиная с революции Ленина, где политические лозунги, не подкрепленные никакой логикой, напрямую апеллируют к этическим началам, к справедливости/ несправедливости. Всё в нашей жизни и истории, что было связано с этическим запросом (я сейчас не говорю о том, «положительный» это запрос, созидательный, или «отрицательный», разрушительный), давало быстрый результат. Военный коммунизм с его жестоким прагматизмом рухнул, а НЭП, который формировался на основе глубоко этических столыпинских реформ, привел к быстрому переустройству жизни. Настолько быстрому, что НЭП пришлось уничтожать, иначе большевистский строй переродился бы. Не случайно и то, что новая русская революция началась борьбой с привилегиями. Потом на вершину власти пришел человек, который опять-таки был востребован именно в этическом плане после стареющего Ельцина. И сейчас на нас надвинулась колоссальная проблема, потому что народ перестал верить сердцем, что власть честна и что она думает о стране.
Европа логична, рационально логична, как в основе своей логично протестантство. А мы этичны, как этично православие. И в этом смысле культурная матрица в России имеет большое значение. Ни отказаться от нее без потери себя и краха, в том числе экономического, ни «перекодировать» с этики на логику нам не удастся. Хотя мы уже давно пытаемся это сделать. Смотрите сами. Наш главный национальный литературный герой Раскольников жил с ошибкой восточного сердца, когда придумывается сверхзадача и человек алогично, но этически горячо приносит в жертву и чужую жизнь, и свою судьбу. Но после каторги он покаялся. А мы после 70-летнего красного террора с его манихейской этикой без покаяния вернулись в образ Лужина. И сегодня мучаемся в этом образе.
Поэтому сегодня главный наш вопрос: где, в какой плоскости находится сейчас этическое измерение нашего экономического устройства. Потому что этика классического «марксового» капитализма противоречит этике православия. Его мотивация человека через деньги не срастается с нашей мотивацией через совесть. В результате многие молодые люди «обратным ходом» начинают бросаться в противоположную крайность, прославлять социализм, чья внутренняя ложь нам слишком хорошо известна. Возможен ли такой строй, при котором человек трудится и работает в меру своего таланта и физических возможностей, а получает ровно столько, сколько ему нужно для жизни? Чтобы он не был мотивирован деньгами, а был мотивирован совестью? Это не программа построения очередного счастливого государства; это мучительный вопрос, который коренится в нашем коллективном бессознательном и формируется культурной матрицей, определенной две тысячи лет назад, а тысячу лет назад принятой Россией.
Контекст: фрагменты дискуссии
Александр Музыкантский
— Выбирая для обсуждения актуальные проблемы истории и культуры, СВОП обозначает не только новый этап в своей деятельности, но и (хотелось бы верить) иной подход к осмыслению отечественной элитой как глубинных социокультурных оснований нашего общества, так и возможностей (если хотите, коридора возможностей) ответа на вызовы, которые современный мир ставит перед Россией.
Очень важно при обсуждении не терять осознания того, насколько будущее народа, общества определяется его прошлым. Уж очень часто важнейшие политические (и внешнеполитические в том числе) решения принимаются исходя из убежденности, что в каждой исторической точке можно начать жизнь с чистого листа. Вот примем новый закон, утвердим новую концепцию, уберем того, назначим этого, нажмем кнопку «перезагрузка» — и все заработает. Прагматики-волюнтаристы, как правило, оптимисты. И с огромным трудом каждое поколение на собственном опыте убеждается, что так не бывает. Но этот опыт слишком дорого обходится.
Необходимо за нагромождением конкретных событий (родился, женился, воевал, победил и т. д.) видеть то, что история каждого народа создает на столетия. Систему ценностей и идеалов, заповедей и запретов, матрицы восприятия и поведения. Для обозначения подобной системы используются разные термины («базовые архетипы», «политическая культура» и т. д.). В последнее время все чаще применяются термины «культурный код», «культурная матрица».
Каждый из нас является носителем определенного культурного кода, которому присущ набор фундаментальных характеристик, организующих всю совокупность процессов на всех уровнях — от индивидуального до национального. Именно этот набор составляет социокультурный базис общества, детерминирующий вектор его развития. (А то, что многие, даже и большинство индивидуумов, не привыкли рассуждать в подобных категориях, ничего не значит. Г-н Журден тоже не знал, что он говорит прозой.)
К архетипам российского социокультурного базиса относятся среди прочих такие его компоненты, как сакральное переживание власти, идеал синкрезиса, уровень мифологизации, правовой нигилизм, гностическое переживание действительности как враждебного, опасного мира, низкая цена человеческой жизни, манихейская интенция разделения мира на своих и чужих, между которыми идет непримиримая борьба.
Над созданием социокультурного базиса история работает тщательно и кропотливо (в России на его создание ушло несколько веков, считать тут надо по крайней мере с XIII-XIV столетий). И несмотря на наличие нескольких мощных попыток его корректировки, предпринятых за это время, он продолжает в основных чертах сохраняться и каждый раз успешно воспроизводится в новых общественно-политических условиях. Фактически все российские «модернизации» и были попытками (осознанными или нет — это отдельный вопрос) изменить, откорректировать те черты российского социокультурного базиса, которые блокируют историческую динамику. Но корректировка социокультурного базиса — задача сверхтрудная (хотя и не безнадежная), да и изменяется он крайне медленно, не в пример рукотворным правовым и политическим конструкциям, которые могут быть изменены самым радикальным образом в несколько дней.
Но в том-то и дело, что истинная реформа, чтобы иметь шансы на успех, должна пониматься не как экономическая (социальная, политическая) инновация, а как глубинный социокультурный процесс. И если цели реформы выводят за границы наличного социокультурного базиса, а задача его корректировки не ставится, то результатом будет знаменитое «хотели как лучше…»
Вся российская история полна подобных примеров «недореформирования», «недомодернизирования». Рассмотрим один из них, связанный с идеей разделения властей. Прекрасная «инновационная» идея. С политологической точки зрения безукоризненная, с практической — не раз подтвердившая (правда, там, у них) свою эффективность. Но на нашей почве попытка ее внедрения сталкивается с базисными идеями о сакральном и синкретичном характере власти. В итоге после непродолжительной борьбы базисной и инновационной идеи побеждает базисная, и мы получаем очередной вариант вертикали власти. На то они и базисные сущности, чтобы перемалывать, редуцировать под себя всякие политические, а равно экономические и социальные инновации.
Отсюда следует вывод: подход к реформированию, к продвижению каких-либо инноваций, ограничивающийся только созданием новых структур и институтов, принятием новых концепций и законов, отставкой одних и назначением других, представляется поверхностным и априори неэффективным.
Все сказанное в полной мере относится и к внешнеполитической деятельности. Например, при формировании российской внешней политики необходимо учитывать детерминирующее влияние российского социокультурного базиса. Например, на дипломатическую практику не может не влиять отсутствие в русской культуре традиций уважительного диалога или гипертрофированное значение, которое в ней уделяется заговорам как главной объяснительной причине. И то и другое является прямым следствием манихейской интенции, одной из составляющих социокультурного базиса. А кроме того, другие народы в процессе своего развития выработали свои собственные ценности, сформировали свои культурные коды, которые могут существенно отличаться от присущих российской культуре. И пренебрежение этими различиями может привести к очень плачевным последствиям.
Леонид Григорьев
— Пункт первый. Я как-то «продавал» очередную программу развития клиентам в Питере. Мне говорят: вы можете описать катастрофический сценарий для страны без какого-то кризиса, без войны, а простой, естественный? Я рассказал; восторга это не вызвало. Теперь рассказываю вам, как будет выглядеть страна при естественном движении событий. То есть без вмешательства в их сегодняшний ход. Элита съедет. То есть вся элита — и финансовая, и культурная. Ее представители будут наезжать сюда по творческим и финансовым делам. В стране останутся только юристы и охранники при собственности. Никакая культура не понадобится вообще.
Второе. Можно ли осуществить советский вариант, как предлагает Дмитрий Быков? На мой взгляд, с демографической позиции мы уже прошли точку невозврата, потому что финансовые элиты сдвинули источники владения собственностью и детей за границу, интеллигенция либо уезжает сама, либо в качестве интеллектуальной обслуги вместе с бизнесменами, либо как минимум выучивает детей там. А все остальные рожают по одной красивой девочке, очень хорошо ее здесь образовывают и выдают за границу замуж. Все. Скорее всего, мы демографически уже не имеем базиса для советского варианта. Или он есть только в Москве, а больше нигде, за счет эффекта стягивания.
Третье. Школа. У меня дед был преподавателем в гимназии, мать — заслуженная учительница. Вообще мы, Григорьевы, учим в этой стране с очевидным успехом где-то 115 лет нон-стоп. Должен сказать, что, конечно, школа очень расслоилась. Но есть хорошие школы, есть хорошие дети. И я бы сказал так: никакой проект возрождения без внимания к школе не сработает. Именно внимания, а не реформ. Потому что нужно бы ввести закон о вреде реформ вообще. Потому что все реформы, даже технологические, проводятся таким образом, что разрушают накопленное существующее богатство, прежде чем появляется со временем что-либо полезное новое, что задумано. Технология проведения реформ — это отдельный предмет экономической науки; мы, экономисты, знаем, что проведение реформ в нашей стране гораздо хуже той никуда не годной реальности, которую она реформирует и что самая плохая реформа не так страшна, как процесс ее ввода. Что становится главным событием недели в Москве? Не бомбардировки нефтепромыслов Ливии. А введение одностороннего движения на улице Красина, которое парализует центр.
Четвертое. Я понимаю, что у нас сегодня культурная кампания. Поэтому не могу не сообщить, какое событие нашей истории будет ключевым юбилейным фактором для Москвы в 2012 году. У нас на будущий год намечено 200-летие московского пожара. Надо готовиться. Французы на подходе.
Виталий Третьяков
— У меня есть такие же наброски, как у авторов докладов, такие же впечатления о трагедии русской культуры. Они сродни нескольким полотнам приличного масштаба, как у Айвазовского «Девятый вал». Но какое это имеет отношение к оборонной и прочей политике? Впрочем, у меня будет конструктивное предложение в конце. А сначала, коль скоро доклады произнесены, несколько впечатлений о том, что услышал.
Во-первых, порочна сама тема этой первой сессии — «Русская культурная матрица: тормоз на пути развития или его опора?». Если неверно поставить вопрос, то уже, естественно, и никакого выхода не найдешь. Твоя личная культурная матрица, твоя или общества, не может быть тормозом на пути развития. Она твоя. Это нонсенс — так ставить вопрос. И конечно, она не опора. Она внутри тебя. Какая опора? Опора то, что у тебя под ногами, вне твоего тела. Это двигатель твоего развития. Только не нужно к этой культурной матрице относиться с презрением. Не нужно, как некоторые выступавшие, каламбуры выдавать за философские открытия. При чем здесь пожар Москвы? Не пожар Москвы в следующем году будет праздноваться, а победа России в Отечественной войне 1812 года.
Вообще, я наблюдаю опасную тенденцию выдавливания политики из наших дискуссий. В прошлом году на сессии СВОПа выступали историки. Сейчас предоставлено слово людям культуры. Но давайте в следующий раз на Ассамблею СВОПа эстрадных артистов пригласим или менеджеров из модельного агентства Павла Пожигайло, которое, к сожалению, видимо, разорилось.
Порочно поставленный тезис, поставленная тема — они и ведут к порочным выводам. Даниил Борисович Дондурей начал с того, что каждый отечественный ребенок, наш, российский, русский — знает, что говорить надо одно, думать другое, делать третье, в отличие от западных детей. Вы что, изучали западных детей? И всех российских детей? Я утверждаю, что вы неправы. Не собираюсь на этом поле спорить. Но у вас очень сильное утверждение, которое просто кладет на лопатки если не всю нацию, то во всяком случае все ее молодое поколение. По-моему, тем пороком, о котором вы говорите, страдают не отечественные дети, а отечественные взрослые, прежде всего отечественная интеллигенция. Так правильнее было бы сказать. Западные интеллектуалы, кстати, занимаются тем же самым.
Три кризиса, которые якобы табуированы… Что табуировано? Все то, о чем вы рассказывали, говорится со страниц СМИ и с экранов, в электронных средствах массовой информации. Просто активнее всего об этом повествуется в изданиях, которые не очень любит кое-кто из присутствующих здесь людей. Так вот, трем кризисам, которые вы описали, газета «Завтра» посвящает каждый свой номер. Целый ряд статей. Просто вы считаете неприличным на нее ссылаться. Возможно, проблема в том, чтобы соединить вас и «Завтра»? Я не знаю. Но никаких табу нет.
И нет никакой тайны в том, как функционирует наше общество. Хорошо оно функционирует или плохо с точки зрения неких эталонов? Всем известно, в советской школе учили, что эталон длины — метр, эталон веса — килограмм и т. д. хранятся в городе Париже. Но, может быть, какие-то эталоны лежат в других городах? Может быть, просто нужно посмотреть на другие эталоны, и все будет не так ужасно?
Все прекрасно знают, как и что у нас функционирует, о чем Дмитрий Быков и сказал. Но Быков дал ответ на тот вопрос, на который, как мне кажется, боитесь дать ответ вы. Хотя он впрямую об этом не говорил. Он просто задался вопросом: а почему так отвратительно все сейчас — все то, что вы описывали? И где было не отвратительно? И он ответил: в Советском Союзе. Я утрирую, но совсем мало. Быков также заявил, что нужно вернуться к тому, сему, пятому, десятому…
Я так понимаю, что вы не хотите вернуться к тому, что было в Советском Союзе, и вам уже не нравится то, что есть сейчас. Дальше что делать? Дальше сказать, что дети все лицемеры у нас с рождения. И поэтому давайте закроем этот проект. Дмитрий Быков говорит: в Советский Союз давайте вернемся. Честно, конкретно. Можно это обсуждать, можно это отвергать. Но тут есть предложение. У Даниила Дондурея его нет.
Но у меня есть другое конкретное предложение. Главная дискуссия, которая сегодня проходит в обществе, связана с известным проектом, условно говоря, десталинизации, ряд авторов которого здесь находятся. Об этом говорит российское общество, среди прочего, и в заторе на московской улице. Может быть, и нам об этом поговорить? Тем более что у меня есть контрпроект проекту десталинизации. Это проект девласовизации. Я предлагаю запретить находиться на государственной службе людям, которые приветствуют, поддерживают «светлый образ» генерала-предателя Власова. У меня все это изложено на бумаге, и я готов доложить в деталях этот проект.
Анатолий Вишневский
— В начале ХХ века российское общество было крестьянским и сельским, примерно 85 процентов населения жило в деревне и занималось в основном сельским хозяйством. Если называть культурной матрицей некую устойчивую систему взаимосвязанных парадигмальных ценностей, культурных норм, стереотипов поведения и т.п., то, конечно, этому населению была свойственна сложившаяся, выработанная столетиями традиционная культурная матрица, продиктованная всеми условиями жизни и быта русской деревни, властью «ржаного поля», как писал когда-то Глеб Успенский. Даже если со временем она претерпевала какие-то изменения, некая общая вековая основа, относительная устойчивость, неизменность этой матрицы сохранялась, потому что сохранялись главные устои русской жизни. С этим можно согласиться.
Но в течение XX века произошли огромные изменения самих этих устоев. Сельское по преимуществу традиционное российское общество превратилось в городское, городскими стали и занятия, и образ жизни, и отношения между людьми. И, конечно, должна была возникнуть и выйти на первый план новая, городская культурная матрица, совершенно не такая, как прежде. Здесь сказалось все — и новая концентрация населения, новая теснота и частота контактов между людьми, и несопоставимый с прежним уровень образования, и совершенно иные демографические реальности человеческого бытия, и многое другое.
Этот переход общества из сельского в городское состояние произошел не мгновенно. Он резко ускорился с конца 1920-х годов, но только с конца 1960-х число городских уроженцев в России превысило число родившихся в деревне, в старших же поколениях еще довольно долго большинство составляли выходцы из деревни, огромная доля городских жителей были горожанами в первом поколении. Тем не менее, к концу XX века уже примерно 70 процентов россиян рождались и с рождения воспитывались в городах, трансформация сельского общества в городское была близка к завершению.
Таким образом, по сути, весь ХХ век был переходным веком, когда общество одного типа превращалось в общество другого типа. И прежняя культурная матрица, если использовать этот термин, постепенно мутировала, превращалась в иную матрицу, соответствующую новым условиям.
Старая и новая матрицы не одинаковые, во многом противоположные, переход от одной к другой не мог происходить совершенно бесконфликтно, мирно. У каждой из них были свои сторонники, они сталкивались, между ними шла борьба. Она не затихла и до сих пор, как можно видеть даже по полемике, которая разворачивается здесь.
Признавать смену культурной матрицы не значит полностью перечеркивать прежнюю. Прежняя матрица не исчезает совсем, она все время, как подводная река, возникает и напоминает о себе: есть разные слои истории, есть носители культурной традиции, которые не могут и не хотят от них отказываться. Мне кажется, это все совершенно закономерно. Синтез старого и нового до определенных пределов не только возможен, но и неизбежен, как неизбежен, а порой и полезен определенный культурный консерватизм. Но этот консерватизм не должен быть догматическим, то есть таким, который настаивает на полной неизменности и несмешиваемости культурных матриц. К сожалению, такой догматизм иногда встречается — и тогда, когда речь о старой и новой матрицах, и тогда, когда в центре внимания оказывается взаимодействие матриц, рядоположенных во времени (хотя, по правде говоря, рядоположенность в календарном времени очень часто может сочетаться с пребыванием в разных исторических эпохах). Мне кажется, что подобный догматизм — всегда признак проигрыша, жест отчаяния при осознании своей неконкурентоспособности, невозможности противостоять напору каких-то более эффективных культурных образцов.
В любом случае смена культурной матрицы ставит все общество перед очень серьезными вызовами, на которые оно должно дать ответ; на них приходится отвечать всем его институтам — социальным, политическим, религиозным. И либо они замечают, признают существование этих вызовов новой культурной матрицы и вообще новых запросов со стороны жизни и пытаются как-то ответить на них, а в этом, по-моему, и заключается смысл модернизации, либо они не признают этих вызовов и все время возвращаются к прошлому опыту, считая его исчерпывающим.
Я хочу согласиться с тем, что сказал во введении Александр Архангельский: надо как-то понять, на чем вообще может объединяться общество. Что его объединяет: воспоминания об общем прошлом или проект общего будущего? Мне кажется, что непрерывное обращение к прошлому и поиски идентичности только в прошлом закрывают путь в будущее. Настаивание же на неизменности культурной матрицы блокирует все попытки модернизации. У нас есть сторонники «консервативной модернизации», то есть, по сути, модернизации с опорой на традиционную культурную матрицу, но, по-моему, это — путь в тупик.
Что вовсе не означает отказа от прошлого, скорее, напротив, требует внимательного отношения к нему. Именно там содержатся уроки, которые нужно усвоить, чтобы двигаться в будущее. Но истинное, а не придуманное прошлое. Я видел в Астане памятник репрессированным, там представлена карта всех казахстанских лагерей. В Астане можно, а нам не положено? Это странная мысль. Отношение к истории тоже может и объединять, и разделять, но в принципе, наверное, все-таки по-настоящему объединиться можно, имея только более или менее общие взгляды на желаемое будущее, более или менее общую его модель. Речь идет о какой-то мировоззренческой модели, а отнюдь не об утопическом проекте того типа, какой мы уже пытались реализовать. Вообще мне кажется, что опасность новой утопии — это самая большая опасность, которая нас сейчас подстерегает. Есть очень разные варианты утопии, которые предлагаются и конкурируют между собой, главное, что их объединяет — это отрыв от реальности. Поэтому я хочу закончить призывом ко всем будущим ораторам на этой сессии: все-таки привязываться к тем реальным вызовам, которые ставит перед нами наше сегодняшнее существование.
Многие из этих вызовов связаны с особенностями нашей социальной структуры, с той ролью, которую в ней играют городские слои, — они-то как раз и овладевают новой культурной матрицей, и одновременно вырабатывают ее. Как я уже говорил, эти слои сложились только недавно, развиваются и набирают опыт, но, безусловно, как бы это помягче сказать, не всегда безупречны. К сожалению, одним морализированием справиться с пороками этого мира невозможно. Путь один: с помощью ответов, которые способна дать на эти вызовы культура, попытаться «доработать» нашу матрицу. А что такое культура? Это прежде всего память, которая накапливается людьми в процессе их реальной жизненной практики. В культуре закодированы уроки прошлого опыта, причем не только нашего, чужой опыт тоже бывает полезен. Дон Кихот — он везде Дон Кихот, даже и под пером Достоевского. Но подчеркиваю: никуда вернуться не удастся, это невозможно; культурное наследие дает кое-какие подсказки и для будущего, однако нельзя только паразитировать на прошлом, что-то нужно создавать и самим, модифицируя тем самым привычную матрицу.
Георгий Сатаров
— Я ужасно не люблю понятие — культурная матрица. Как только пытаешься к этой конструкции применить хоть минимальные исторические знания, все рассыпается. Потому что непонятно, а о матрице чего, о матрице каких людей, какого народа идет речь. Я напомню известные события, которые привели к окончанию Смутного времени. Обычно вспоминают Минина и Пожарского. Но Пожарский был фигурой абсолютно случайной, как знают историки. Он был такой тихий князек, который не встревал ни в какие свары, не был замечен ни в чем. И только потому был привлечен новой народной властью. Есть тут матрица? Есть. Так нанимали князей за 300 лет до этого. Но имелось и нечто иное — куда более важное, чем какой-то Пожарский князек. Потомки князей, предавших русский народ татаро-монгольскому игу, не смогли справиться с выведением России из нового кризиса; именно поэтому возродилась вечевая традиция. Объединились народные собрания городов, учредили временный совет межгородской, издали постановления, стали собирать деньги. Восстановив вечевую традицию, граждане наняли князя, собрали деньги на третье ополчение, первые два были бесплатные, взяли Москву и учредили новую династию.
К чему я это говорю? А к тому, что у нас почему-то считается, что основой старинной русской демократии были Псков и Новгород; с исторической точки зрения — абсолютное вранье. Чтобы убедиться в этом, не обязательно залезать в современных историков, достаточно почитать такого имперского автора, как Костомаров, который называл домонгольское наше правление удельно-вечевым строем. Вечевая традиция не была псковской или новгородской; вплоть до ига она была универсальной. Было разделение властей на гражданскую вечевую власть и власть полицейскую, которая нанималась этим вече в лице князей. И это была нормальная матрица, между прочим, похожая на старую швейцарскую традицию.
Довольно распространенные эти вещи были не только в России, но и на Востоке. Потом было татаро-монгольское иго. До него князья безуспешно пытались монополизировать власть, но ничего не вышло. Когда пришли татары, обнаружился общий интерес — у колонизаторов и у князей. И они совместно подавили этот самый вечевой строй, и начала внедряться, говоря этим языком, другая властная матрица. Внедряли 300 лет. Ничего не вышло, обращаю внимание. Так вот, о какой матрице вы говорите? Об этой, исконной русской, о вечевой, или о принесенной монголами и успешно внедренной ими совместно с князьями? С тем же Александром Невским, который возглавлял карательную экспедицию на Тверь вместе с монголами, когда тверской князь присоединился к вече. Или с Дмитрием Донским, который просидел всю Куликовскую битву в кустах, потом сдал Москву Тохтамышу.
Про эту культурную матрицу мы говорим? С этим надо определиться еще по той простой причине, что существует такая вещь, как ошибка атрибуции, это фундаментальный постулат социальной психологии, из которого вытекает, что наше поведение определяют не только личные качества, которые кодируются в этой матрице, но и обстоятельства, опыт современной истории. Поэтому я не люблю это понятие. Оно внеисторично и обрекает страну на инерцию, а нас — на бесполезные дискуссии.
Константин Затулин
— Костомаров не был имперским историком, он был украинским историком, писал отлично от других, уж на самом деле имперских. Надо просто их читать, чтобы знать, в чем их отличие. Поэтому большая просьба: если мы не хотим совсем уйти в зазеркалье, а мы уже почти там оказались, все-таки немножко быть внимательнее и сразу все истины не взяться опровергать, в том числе исторические. Они обычно мстят после этого. Насчет Дмитрия Донского, который отсиделся, насчет Александра Невского, который на Тверь был ниспослан монголо-татарами и т.д. Ни Дмитрия Донского, ни Александра Невского здесь нет. И кроме нас, нескольких историков, Никонова, меня, Кожокина — некому защитить этих людей. Поэтому у меня большая просьба: не трогайте вы их.
Ольга Крыштановская
— Когда мы говорим о культуре и культурной матрице, то сами действуем, простите, матрично. Наша матрица такая: плохо, очень плохо, ужасно, ужасно-ужасно и еще ужаснее. И вслед за этим революция. Авторство принадлежит нашей интеллигенции, а повторяют, как мантру, самые разные люди. Ужасно, нет выхода, потом революция, перезагрузка — и начинаем все сначала. Именно поэтому у нас образовалось специфическое отношение к прошлому. Все старое для нас плохо. При Сталине был плох царизм, в 90-е был плох Советский Союз, сталинизм, теперь — лихие 90-е… Все старое для нас плохо, ветхо и бедно. Но вспомните Пушкина или вспомните еще кого-то. Поверьте, это не так уж и плохо. И нам необходимо вырваться из поля тяготения интеллигентской матрицы, матрицы самовоспроизводящейся революции. Мне кажется, для России это принципиальная вещь. От заклинаний о том, что уже все ужасно и скоро-скоро уже грянет буря, перейти к привычке исправлять плохое не революционным путем. Это первое.
Второе. Трагедия происходит не в сфере образования. Это вопрос вторичный, которому почему-то сейчас стал придаваться первичный характер. Первично отношение к труду. У нас люди, которые не смогли или не захотели получить образование, как бы исчезли из нашей жизни. Мы когда последний раз вообще говорили о том, что у нас есть рабочий класс и люди, работающие на производствах? Возможно, это реакция на советское превозношение «гегемона». Но сейчас, если ты не хочешь получать высшее образование, ты просто неудачник. Ты никто. И труд как таковой не уважается. Уважается только образование, что ошибочно и опасно. И для того чтобы остановить это новое красное колесо, нам надо какие-то базовые вещи склеивать и давать им новую жизнь, перезагружать их без революции. Тогда восстановится этика и обнаружится, что у нас не так уж плохо, мы видим недостатки, но можем их исправлять.
Андрей Клепач
— Когда мы говорим о культуре, то идем от культуры писаной, так называемой высокой, внутри которой живет интеллигенция. Но между ней и той культурой, традицией и ценностями, которыми все-таки живет большинство людей, что в деревне, что на предприятии, есть огромная пропасть. Она всегда была в России, но мне кажется, что сейчас она только увеличивается. Хорошо это или плохо? Пропасть всегда опасна, но, как ни странно, то, что основная часть населения сохраняет корневую культуру, служит некоторым стержнем, шансом на успешное обновление. В Китае, Японии опросы дают похожие результаты. Ценности семьи, конфуцианство… И это не мешает их модернизации, наоборот, обеспечивает энергию рывка.
Здесь вопрос: как этим воспользоваться. Как сомкнуть ценности большинства с ценностями самой интеллигенции — в лучшем, и развести их в худшем. Сложный вопрос. Были времена, когда интеллигенты, как светские раскольники конца XIX — начала XX века, сосредоточились на проблеме справедливости — и были услышаны этим самым большинством; чем все кончилось, мы знаем. Сегодня проблема социальной справедливости интеллигенцию, во всяком случае рефлектирующую, выступающую на телевидении, не волнует. Между тем именно тут находится запал, который тлеет и неизбежно рванет, думаю, достаточно скоро. Люди обычно выходят на улицы или предъявляют претензии не тогда, когда хуже всего, а тогда, когда ситуация начнет несколько стабилизироваться. Поэтому проблема социальной справедливости, вообще легитимности всего, что сложилось за последние 20 лет, еще не решена. Я думаю, что здесь будут серьезные конфликты и серьезный вызов. И устойчивости российского общества, и вообще взаимодействию интеллигенции и широких слоев населения в целом.
Второй момент. Действительно, у нас в недавнем прошлом есть непреходящие объединительные ценности. Дмитрий Быков правильно вспомнил про Гагарина. Может быть, это было не очень заметно на телевидении, но вообще в стране, что на предприятиях космической отрасли, что во многих городах, к юбилею Гагарина готовились как к необычайно важному событию. Неформально. Как бы подтверждая самим себе, что русские способны решать нерешаемые задачи и что инженерные инновации связаны с определенным героизмом и служением. Пафос сверхзадачи — он остался. Просто часть общества, глубоко его переживающая, не мелькает в медийном пространстве и отсечена от публичной сферы. В принципе это тоже один из таких стержней, на котором Россия держится, и у которого есть серьезный потенциал.
Что касается борьбы с наследием тоталитаризма, то действительно проблема эта есть, и я считаю, что суд собственной совести и моральное покаяние в делах отцов нам необходимы, и сделать это еще предстоит. Но у нас есть предостерегающий пример Украины, которая тоже прошла через организованный голод и серьезные репрессии, череду государственных преступлений против своего народа. Но голодомор, ставший законом, голодомор, признание которого является условием участия в государственной и общественной жизни, превращается из моральной проблемы в политическую; сегодня эта тема расшатывает гражданскую нацию, разрушает тот консенсус, который в украинском обществе намечался. Поэтому не дай нам Бог пойти в России по такому же пути.
И наоборот, дай Бог пройти по тому пути, который уже намечается. Сколько бы мы ни говорили о моральном кризисе, о засилье порнографии, о героизации преступности, а это правда, не нужно забывать, что в обществе начинаются серьезные духовные искания. Через расширение православия, через возрождение традиционного ислама; есть и другие направления, связанные частью с буддизмом, частью с неоязычеством, вплоть до поиска арийских и прочих корней. Это луч света в темном царстве, который может породить и новую волну тьмы. Весь вопрос в том, кто предложит ответы на мучающие общество вопросы.
Конечно, есть опасность ксенофобии. Она была всегда, но сегодня мы чувствуем, как нарастает неприятие соседа, принадлежащего к другой этнокультурной традиции. Хотя совсем недавно, в 80-е годы, при советской власти, большинству из нас было совершенно безразлично, кто твой сослуживец, твой сосед — азербайджанец, армянин или литовец. Роковую роль сыграла чеченская война; собственно, она еще не кончилась — если считать террор ее отголоском и продолжением. Хорошо, что даже в трагических условиях этносоциального конфликта мы не впали в массовую ксенофобию, хотя попытки запалить систему были. Но, выиграв вторую чеченскую войну, мы пока не выиграли национальный мир. И не создали модель общественных отношений, позволяющую бесконфликтно жить вместе, что показала и Манежка, и многие аналогичные события. Тут перед культурой встают серьезнейшие вызовы. И от того, как она на них ответит, напрямую зависит ее статус и влияние в современном российском обществе.
ОСОБАЯ ПАПКА
Владимир Хотиненко:
«В современной культуре нет сияющих вершин»
Говорить о том, что сейчас культура настолько развилась, что достигла высот больших, чем, например, в период Возрождения, смешно. Когда мы говорим о модернизации культуры, то можно говорить о модернизации каких-то ее элементов, способствующих развитию культуры. Неверно утверждать, что Америка культурно процветает, а мы где-то на задворках. Просто культура в США приспособилась к рынку, а у нас еще нет.
— Существует ли такое понятие — русская культурная матрица? Или это надуманное понятие для того, чтобы объяснить, почему мы плохо развиваемся?
— Я не считаю, что мы плохо развиваемся. Если иметь в виду, что, например, американцы хорошо культурно развиваются, а мы — плохо. Не думаю, что это так. Просто культура в США приспособилась к рынку, а у нас еще нет. Вот и все.
Что касается русской культурной матрицы, то она, конечно, существует. Я противник обезличивания и безоглядного слияния культур. Взять хотя бы мир природный, а я от этого отталкиваюсь, потому что человек — тоже элемент этой природы. Если бы существовало обезличивание, то не было бы такой разнообразной природы. В этом разнообразии и проявляется индивидуальность. Русская культура формировалась веками и сформировала свою матрицу.
Когда мы говорим о модернизации культуры, то можно говорить о модернизации каких-то элементов, способствующих развитию культуры. Но я не знаю, что такое модернизация самой культуры. Говорить о том, что сейчас культура настолько развилась, что достигла высот больших, чем, например, в период Возрождения, смешно. У меня есть один пример, который для меня очень важен. Я очень люблю художника Винсента Ван Гога. Тот при своей жизни не продал ни одной картины. И сейчас, когда на аукционе объявляют стоимость его «Подсолнухов» — 80 миллионов долларов, мне кажется, что это неправильно. Ведь эта картина — часть нашей общечеловеческой культуры. Картины художника Ван Гога не могут продаваться. Картины художника Ван Гога должны выставляться. Их продажа — издевательство над художником Ван Гогом. Вот в этом и проявляется система взаимоотношений культуры и рынка. Но продажа картин Ван Гога воспринимается обществом абсолютно естественно, словно так и должно быть. И это ключик к пониманию проблемы.
— Насколько сегодня справедливо говорить о такой общемировой тенденции, как оглупление общества?
— Культура — мощный механизм, который может подломить, подорвать здоровье нации, равно как может оказывать терапевтическое воздействие. Это такая вечная борьба за души человеческие. Сегодня можно из ничего сотворить культовую фигуру. Можно смоделировать культурный процесс, сотворить звезду, создать знаменитого художника, равно как и уничтожить его. Все это благодаря средствам массовой коммуникации. Массовое сознание всегда массовое сознание. Я не могу представить некое общество, где все стремятся к образованию и культуре. Такого быть просто не может. Но все равно существуют тенденции, которые во многом зависят как раз от уровня образования людей вообще и культурного в частности. Сегодня этот уровень мне представляется все-таки чрезвычайно низким.
— Это особенность именно России?
— Я думаю, это общая тенденция. Не считаю, что Россия плетется в хвосте цивилизации. Это скорее общий кризис культуры. Многое зависит от идеалов, которые провозглашаются тем или иным обществом. Красота человеческая потихонечку подвергалась эрозии. Эстетические идеалы, изложенные и прописанные, в живописи, в музыке, потихонечку смещались в область просто идей. А человек вынимался, вынимался и вынимался. При провозглашении обществом гуманистических идей на самом деле внутри они стирались.
Возьмем нашу страну. Что сейчас является основным звуком? Это тотальная попса. Гипермассовая культура, максимально упрощенная. Понимаете, отчего у нас в стране еще существуют такие ностальгические всплески по старым фильмам, старой музыке? Потому что там присутствовала человеческая сущность. Была теплота человеческая.
— Есть ли смысл государству вкладывать деньги в такую культуру?
— Поп-культура уже достаточно развилась, и она вполне может существовать самостоятельно. Этим кормят, уже рот набит, уже жевать это невозможно. Государство в такую культуру, скорее всего, не вкладывает, поскольку она уже существует сама по себе и имеет свой рынок. Но этого не могут себя позволить другие сферы культуры. Сколько вы можете назвать писателей, которые живут своим трудом? Думаю, наверное, на руке хватит пальцев. Такая же ситуация с музыкой. Для гипермассовой культуры у нас раздолье. Но за этим шумом уже практически невозможно услышать что-нибудь сущее. Бороться с этим нет смысла. Тут фактически нужно вырастить новое поколение. Лет через 15-20, если предпринимать усилия, то можно получить результат. Думаю, что происходящее в культуре — процесс необратимый. Это не означает, что нужно обреченно опустить руки и ничего не делать. Однако общую картину сильно изменить невозможно.
— Рынок и «культуротворная» среда — вещи совместимые?
— Вопрос непростой. С одной стороны, я с удовольствием поддержал бы тех художников, которые говорят: культура находится вне рынка и должна финансироваться государством. Но с другой стороны, где критерии, по которым будут финансироваться те или иные проекты? Кто будет решать, что именно есть культура, и противодействовать людям, которые просто в силу таланта не способны в творческой, конкурентной борьбе завоевать свое пространство. В самые застойные времена в Госкино, тем не менее, существовал некий механизм, который предлагал большим художникам пробиваться сквозь идеологические тернии. И в кино у нас выросла плеяда режиссеров величайшего уровня. Поэтому говорить о том, что культура должна жить без сопротивления, никак нельзя. Какой-то все равно должен появиться механизм, с помощью которого будет осуществляться селекция.
Влияние культуры на общество стало другим. Нет уже тех сияющих вершин, на которые можно было бы ориентироваться. И воспоминания какого-нибудь бывшего премьер-министра или какой-нибудь поп-звезды вызывают у читателей больший интерес, чем произведение писателя. Я думаю, это общая проблема.
2. Модернизация через культуру: неизбежность национализма?
Основные вопросы раздела:
- Все констатируют, что Россия вступила в неизбежный период всплеска русского национализма. Это только отрицательное явление или необходимое условие возрождения страны? «Мертвая вода», которая соединяет разрубленное тело?
- «Манежная площадь» была эксцессом или закономерным явлением? Связано ли оно с агрессивно-обостренным спросом на свою культуру, в том числе правовую, или только с протестом против присутствия «чужаков»?
- Почему русское национальное самосознание (в отличие от украинского, грузинского, чеченского и др.) не «проснулось» сразу после распада империи, а напомнило о себе только через 20 лет? Почему основным носителем национально-обостренного чувства является молодежь?
- Не предстоит ли нам пройти через столкновения разных на-ционализмов, чреватые распадом государственности?
- Можно ли сопоставлять русский постимперский национализм с французским национализмом 1960-х годов, с другими примерами постимперского всплеска национальных чувств?
- Какое влияние на восприятие России в мире окажет этот «национально окрашенный» этап развития нашей цивилизации? Не повредит ли он интернационализации политики, интегрированию российской науки в мировой контекст?
- Не приведет ли всплеск национализма к политике самоизоляции, к ослаблению интеграционных процессов и снижению политического веса России в мировом сообществе? Умеет ли культура «работать» с национализмом, обеззараживать его, выводить из агрессивного состояния, насыщать созидательными смыслами? Можем ли мы опереться на культурный, политический, экономический опыт стран, которые раньше нас столкнулись с аналогичными проблемами?
- Там, где культура выдвигается в качестве главного мотора модернизации и магнита для инвестиций, в центре всех процессов оказывается именно актуальная универсалистская культура, а национально-традиционная сдвигается на обочину. Случайно ли это?
- Возможно ли возрождение через возвращение, например, к «золотому» XIX веку, понимаемому широко, как наша викторианская эпоха, от Екатерины Великой до начала XX столетия? Возможно ли создать постимперскую картину мира, в которой национальному и космополитическому полюсам найдется смысловой противовес?
- Какую роль будет играть в этих процессах Церковь? Сможет ли она стать неформальным арбитром или займет одну из сторон в национально-культурном и социально-политическом конфликте? Будет ли сотрудничать с современной русской культурой? Насколько вероятна вспышка «нового атеизма» в молодой интеллектуальной среде?
- Остается ли Россия плавильным котлом культур населяющих этносов? Какие уроки может и должна извлечь Россия из кризиса политики мультикультурализма в Западной Европе? Какую роль будет играть такая ценность, как толерантность? Она укоренена в нашей культурной традиции? Она может быть встроена в нее?
Виталий Куренной
Национализм как форма современности
Начну с предварительного замечания относительно характера ведения общественной дискуссии в сегодняшней России. Именно с этим, мне кажется, связано большинство недоразумений относительно обсуждения у нас темы национализма. Что такое нормальная современная общественная дискуссия? Это когда идет состязание за семантическое определение ключевых общественных понятий — власть, демократия, свобода и т.д. Райнхарт Козеллек, создавший словарь «исторических понятий» современности, называет такие понятия базовыми понятиями. Их специфика состоит в том, что у них нет одного «правильного» смысла. Их семантическое определение — всегда предмет общественного спора. Наличие такого спора является неотъемлемой особенностью современного общества.
Но если мы обратим внимание на нынешнее российское общество, то возникают сомнения, что по этому критерию его можно отнести к современным обществам. Публичная дискуссия у нас ведется, так сказать, позиционно. Это означает, что люди сидят в своих окопах, и их единственная задача состоит в том, чтобы эти окопы изо всех сил оборонять. Языковая тактика этой борьбы сводится к тому, что есть понятия, с помощью которых представители одного лагеря обозначают свою позицию, и есть слова, с помощью которых они обозначают позиции своих противников. Все эти слова и понятия всего-навсего маркируют вашу приверженность тому или иному лагерю. В собственном смысле общественной дискуссии, то есть конкуренции за семантическое определение социально важных понятий, фактически нет. Нет состязания за то, чтобы предложить и отстоять собственную трактовку определенных понятий. Слова являются не осмысленными понятиями, а стигматами, эмблемами: они пользуются для того, чтобы пометить своих и чужих в ходе враждебной перепалки.
Нечто напоминающее общественную дискуссию возникает у нас в одном-единственном случае: когда понятие начинает использоваться в разного рода правительственных или президентских высказываниях — послании президента Федеральному собранию или в каком-то еще виде. И только тогда разворачивается нечто напоминающее общественную дискуссию. Например, там появляется слово «модернизация». Вслед за этим разного рода группы, точнее, экспертно-идеологические группировки, претендующие на выполнение экспертных функций при власти, начинают состязаться в том, чтобы навязать свое определение модернизации.
Кстати говоря, понятие «матрица» или «культурная матрица», которое мы сегодня обсуждали, имело именно такую судьбу: оно появилось сначала как экзотический плод рефлексий социолога С. Кирдиной, потом вдруг всплыло в языке В. Суркова — и вот, пожалуйста, мы ее сегодня обсуждаем битый день. Говорю это не в порядке критики — напротив, считаю, что понятиям, именно таким образом попавшим в поле экспертного и публичного обсуждения, по-своему везет: здесь появляется хотя бы какая-то общественная дискуссия.
А вот понятию «национализм» и его производным в этом отношении не повезло. Национализм у нас не всплывает в государственно-правительственных речах, а потому никакой общественной дискуссии о национализме у нас нет. Попытка нечто по этому поводу сформулировать после событий на Манежной площади на уровне публично транслированных президентских и правительственных совещаний показала, что сколько-нибудь развитого общественно-политического языка для обсуждения этих проблем у нас попросту не существует. (Существует академическая литература, связанная с национализмом, но на поверхности общественной дискуссии это многообразие никак не обнаруживается.) Национализм — это просто ярлык, который используется в обрисованной окопной позиционной войне. Поэтому использование понятия «национализм» имеет чисто пропагандистский характер: это понятие побуждает не к самоопределению по данному вопросу, а имеет исключительно эмоционально-оценочный характер — для одних со знаком «плюс», для других со знаком «минус». Но в действительности национализм — это именно «основное историческое понятие»: оно существует как комплекс различных семантических интерпретаций самого широкого спектра. То есть когда вы используете слово «национализм», это еще ничего не означает. Только дав содержательную трактовку этому понятию, можно о чем-то разговаривать. Без нее это просто «пустое означающее» или чисто пропагандистский ярлык.
Теперь я позволю себе несколько содержательных замечаний. Название нашей панели связывает модернизацию и национализм. И я считаю эту связь правильной, более того — тривиальной, школьной. Национализм — это современное, модерновое явление. Никакого национализма в традиционном, немодернизированном обществе не бывает. Национализм — это такое же современное явление, как современная техника, как либеральная демократия, как нынешняя система международных отношений. Национализм и современность — это два взаимосвязанных, даже в каком-то отношении нераздельных явления. Напомню, что современное словоупотребление понятия «нация» возникает только в период Великой французской революции.
И здесь я кратко остановлюсь на некоторых основных функциях национализма в современных обществах.
Во-первых, в политическом отношении идея нации фундирует современное понятие суверенитета, определяет легитимного субъекта политического самоопределения в форме государства, существующего в системе других подобных же политических субъектов. Национализм, таким образом, формирует современную государственность и базовые характеристики системы международных отношений.
Во-вторых, важнейшим внутриполитическим аспектом национализма является также то, что он определяет характер политического строя современного государства в качестве массовой демократии. В отличие от демократий прошлого, современная демократия является формой репрезентативного правления не части общества, а общества в целом — в лице всех своих представителей. Чтобы подобная форма правления могла состояться, должно было произойти одно принципиальное изменение: традиционный сословный строй должен был быть упразднен и приведен к некоторому общему политическому знаменателю. То есть к идее политической нации, в стихии которой все равны, несмотря на всевозможные социально-экономические и культурные различия. Тем самым национализм упраздняет именно те оппозиции, которые и сегодня нередко звучали в нашем уважаемом собрании. Я имею в виду овеществленные противопоставления некоего просвещенного меньшинства и дремучего большинства, «города» и «леса» и т.д. Эти оппозиции имеют квазисословный характер, восходят к архаическим тропам так называемой интеллигенции и имеют досовременный характер. Национализм упраздняет подобные сословные и квазисословные границы, конституирует фундаментальное онтологическое равенство всех членов данного государства, являющееся условием и предпосылкой возможности позитивного политического и правового равенства.
Упразднение сословности в рамках идеи нации имеет не только политический, но и социальный аспект. Сословие по факту рождения привязывает человека к определенной группе. Он принадлежит обществу лишь постольку, поскольку принадлежит к определенной группе — семье, клану, сословию или корпорации. Идея нации позволяет индивиду быть собой помимо принадлежности к конкретной группе. Национализм позволяет создавать сложные формы кооперации и взаимодействия, которые в современном комплексном обществе приходят на смену традиционным институтам, основанным на элементарных интеракциях с очень ограниченным радиусом взаимодействия.
Национализм, таким образом, формулирует определенный социальный капитал, без которого невозможно функционирование экономики современного типа. Последняя основывается в социальном плане на очень широком радиусе доверия. Традиционная экономика не способна порождать сложные формы хозяйствования, так как основана на социальных отношениях с незначительным радиусом доверия. Большая семья, по сути, является здесь базовой единицей хозяйствования.
Наконец, национализм имеет огромное множество культурных импликаций, на которых я здесь не стану задерживаться. Собственно, современные культуры возникают и формируются как культуры национальные — в противоположность универсальным имперским формам существования культуры, основанным на едином языке (латынь), едином или безраздельно доминирующем религиозном авторитете и т.д. Отмечу, правда, один культурный аспект национализма, который не является столь очевидным, как круг тем, связанных с национальной культурой. Дело в том, что в современных обществах тяга к тому, чтобы принадлежать к нации, является неизбежной, прямо-таки экзистенциальной потребностью. В чем состоит антропологическая специфика положения человека в современном обществе? — Это неопределенность, являющаяся оборотной стороной экономической, технологической и прочей динамики современного мира. Неопределенность порождает потребность в компенсации — то есть в переживании принадлежности к чему-то стабильному, инвариантному. Подобная стабильность не может иметь конкретного характера — все конкретные социальные сущности находятся в процессе постоянного и ускоряющегося изменения. Абстрактная, но при этом эмоционально нагруженная идея нации наилучшим образом выполняет эту роль своеобразного экзистенциального прибежища, спасения от неопределенности и бремени постоянных перемен.
Не буду здесь приводить известные цифры и результаты исследований российского общества, но, полагаю, все здесь осведомлены, насколько критической является ситуация в России по всем перечисленным выше аспектам, упомянутым мной в связи с национализмом. Ответом на российские проблемы политического, социального и экономического плана является, конечно, национализм.
Но, к сожалению, этой формулой еще ничего не сказано. Здесь мы обязаны задать себе вопрос: какой национализм? Или точнее -если мы остаемся в русле реальной политики, а не фантастических популистских иллюзий: какой национализм в России сейчас возможен? В этой связи я хочу напомнить формулу Гельмута Плесснера, которую он использовал по отношению к немцам, — «запоздавшая нация». Мое предположение таково, что Россия — это не просто «запоздавшая», но, скорее, совсем опоздавшая нация. Мы слишком долго были империей — досоветской, а потом и советской. Выстроить современную Россию в пределах ее нынешних территориальных границ как гомогенную в этнокультурном отношении нацию («Россия для русских» в пределах существующих границ) попросту невозможно. Формирование европейских моноэтнических национальных государств, как нам известно из истории, было далеко не толерантным: в общем-то это репрессивный и кровавый процесс (и далеко не безупречный с точки зрения эффективности, если мы посмотрим на различные формы продолжающего существовать европейского сепаратизма). Наше состояние цивилизованности, наши претензии на цивилизованность не позволят воспроизвести эти рецепты здесь и сейчас. Мы слишком цивилизованны для того, чтобы состояться как хрестоматийная этническая нация. (Всякие сценарии второй волны распада государства я здесь опускаю — просто чтобы не поднимать алармистских тем.)
Означает ли это, что мы должны отказаться от идеи национализма? Нет, я так не думаю. Этнокультурный национализм — далеко не единственная возможная форма национализма. Полагаю, для России остается открытым путь гражданско-конституционного национализма. Т.е. национализма, основанного на лояльности конституции и прагматике единой государственной инфраструктуры. Это национализм, в котором русский этнос является государство-образующим, но не исключительным. Конечно, подобный национализм основан в большей степени на рационализме и прагматике, а не на иррациональном переживании причастности к некоей культурной гомогенности. Но это также национализм — и бояться этого выражения отнюдь не следует. Потому что если мы не говорим языком национализма, обсуждая его различные возможные варианты, то эту политическую форму приватизируют маргинальные силы. И в итоге мы получаем площадь, заполненную молодежью, которую сводит судорога насильственного безъязычия.
Екатерина Гениева
Неизбежность национализма = неизбежность тупика
Я надеюсь, что в названии дискуссии есть сознательно допущенный вызов. Что такое модернизация через культуру, мне понятно; более того, я другого пути вообще не вижу. А вот насчет неизбежности национализма… надеюсь, нам предложен этот тезис, чтобы мы его опровергали. Но сначала — про хорошее.
Только самые ленивые не говорят сейчас о том, что без модернизации конец и как необходимы инновации. В регионах проводится безумное количество конференций, где представители власти наперебой отчитываются, какое количество экономических, технических инноваций они сумели осуществить на вверенной им территории. Технический, технологический аспекты, разумеется, важны; все эти нанотехнологии и интернетовские красоты необычайно вдохновляют, но если говорить о том, чего же мы, в конце концов, хотим достигнуть, то, по моему глубочайшему убеждению, это вещи не основополагающие. Если вообще хоть что-то может приблизить нас к модернизации (хотя само понятие требует, конечно, постоянных уточнений), то это культура и образование.
Другое дело, что страна, которая пережила такие гигантские сломы, как в 17-м и 91-м годах, неизбежно выпадает из своей культурной матрицы. Или, как я предпочла бы говорить, из своей культурной колеи: в идее матрицы есть нечто неподвижное и предустановленное, а колею мы прокладываем сами. Сейчас преемства нет, есть лишь культурная эстафета — в том смысле, что новые поколения в лучшем случае могут коснуться палочки и мчаться дальше; ни о какой реальной и глубокой связи речь не идет. Но и в таких условиях необходимо действовать, и ставить на культуру. Понимаемую широко, включающую в свой объем отнюдь не только Толстого, Достоевского и Чехова, но и весь свод нравственных, этических, духовных практик. Ей чрезвычайно трудно жить в нашем обществе, где столько коммерции и политических решений, оттесняющих ее на задний план. И поэтому в силу разрыва с реальной традицией, помноженного на сиюминутное, но мощное раскультуривание, для восстановления сил культуры, для ее включения в модернизацию нужна политическая воля. Она просматривается, когда возникает тема образования, а про культуру никто вообще не думает. Национального проекта, связанного с нею, не было, и вряд ли он появится. Впрочем, и с образованием дела в реальности обстоят немногим лучше. Нацпроект «Образование» привел к тому, что в школе увеличен удельный вес естественно-научного цикла и математики, а статус литературы и истории резко понижен. Потому что, вероятно, с точки зрения тех, кто пишет эти уложения, математические знания способствуют модернизации, а словесность — нет. Но если не заниматься продвижением культуры, не транслировать ее новым поколениям, то драматические, даже катастрофические последствия стране гарантированы. Национализм — одно из них.
Если национализм (подчеркиваю: не национальные чувства, не национальное самосознание, а именно национализм) победит в нашей действительности, то мы угодим в абсолютный тупик. Слава Богу, это не ближайшая перспектива, но и в Москве, и в регионах нарастает болезненное чувство собственной исключительности и ощущение страны как противостоящей всему остальному миру. Даже в тех городах, которые по праву претендуют на роль культурных столиц и делают ставку на культурную модернизацию. Здесь уже упоминалась Пермь. Замечательный город с прекрасными библиотеками, модными театрами, разумным вице-премьером, который смело курирует сферу культуры; кто же из нас не слышал о ярком пермском проекте, его обсуждает вся страна… Все, казалось бы, хорошо. Но когда на территории Перми мы проводили конференцию о толерантности, то услышали не только весь набор привычных тезисов (толерантность — слово неприятное, иностранное, указывает на наше желание навязать России западные ценности, вот уж лучше русская терпимость.), но и более чем жесткие заявления для прессы со стороны правящего архиерея. Который сказал, что затея с толерантностью крайне неполезна для Перми, а значит, неполезна для России. И дал свое определение толерантности. Толерантность, с его точки зрения, — это когда враг собирается влезть в окно, а мы ему никак не препятствуем это делать.
К чести владыки замечу, что после всех своих заявлений он не уклонился от публичной дискуссии; уже хорошо. Но с точно таким же определением я столкнулась на довольно интересном писательском форуме в Новосибирске, где были представлены очень полно и достойно писатели этого региона. Один за другим они брали микрофон и объясняли нам, что толерантность — это вред, неблаго и опасность для нашего национального сознания; надо всячески закрыть то окно, которое Петр прорубил в Европу, потому что в окно влезает вор. И никакого желания участвовать в дискуссии я с их стороны не почувствовала; они делали заявления, а не предлагали обсуждать свои идеи. Довольно опасные, по моему глубокому убеждению. Если здоровое чувство восхищения своим, любви к родной культуре, к своей земле переродится в национальную гордыню и ненависть к чужому, нас ожидает чрезвычайно печальное будущее.
Выход из создавшегося положения, по-моему, только один. Создавать открытые площадки, на которых возможен честный уважительный разговор носителей разных точек зрения, идеологов разных позиций. Это жизненно необходимо хотя бы потому, что конфессиональный и этнический слом, свидетелями и жертвами которого мы являемся, нами не понят и не изучен; мы будто бы и не догадываемся о существовании друг друга, о сложном устройстве нашего государства. Во время дискуссии по первой теме, о «культурной матрице», я с некоторым испугом слушала суждения о том, что мы по преимуществу православная страна. Да, православная церковь играет в жизни России значительную роль. Ну а что делать с исламом? 20 процентов населения, если не более того; как быть с ними?
Внутри структуры Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, которой я имею честь руководить, есть еще одна структура, которая называется Институт толерантности. Поскольку, наверное, у небес и у Господа нет никаких других рук, кроме наших, мы и стараемся такие площадки открыть, особенно на территориях наших регионов. На сегодняшний день мы сумели это сделать в 12 регионах. Наиболее трудные, упирающиеся территории — это, конечно, Москва и Санкт-Петербург. А в глубине страны руководители регионов идут на диалог, отвечают на явно существующий запрос времени и сознают, что «неизбежность национализма» равно «неизбежность тупика».
Максим Соколов
Между звериным национализмом и национализмом просвещенным
Что касаемо формулы модернизации через культуру, как-то здесь, по-моему, члены этой формулы не очень соразмерны. Модернизация есть некоторое приноровление к требованиям и нуждам времени. То есть дело, возможно, весьма полезное, но при этом достаточно сиюминутное. И в любом случае не сакральное. Тогда как все-таки культура — это в каком-то смысле альфа и омега национального бытия. Иными словами, здесь в качестве орудия для дела, может быть, важного, но никак не священного, используется понятие вполне глубинное, что стилистически режет слух. Но Бог с ними, с понятиями.
Что же касается до неизбежности национализма (заданная тема), то здесь надобно заметить, что вековой опыт преобразований в нашей стране как-то убедительно продемонстрировал одно замечательное свойство человеческой природы. Если человек начинает какую-нибудь затею, запускает, как теперь говорят, проект, то, как правило, он по умолчанию исходит из того, что все осуществится при прочих равных условиях. То есть все полезное и нужное, что сейчас у него имеется, при нем и останется, но при этом получится еще много дополнительного и приятного. Например, если говорить о хозяйственной реформе, то многих из нас преследовали мечты о том, как мы дозволим частную собственность, раскрепостим хозяйственную инициативу, для полного счастья коммунистов погоним и дивно расцветем. То, что процесс этот значительно более сложный, прочих равных условий сохранить не удастся и весьма многим из этих былых равных условий придется пожертвовать, — это стало доходить далеко не сразу. Более того, в ходе хозяйственной реформы выяснилась еще такая вещь, что побеждают зачастую не самые лучшие культурные модели, не те, на которые мы рассчитывали. В частности, прескверные свойства отечественного бизнеса, я думаю, в немалой степени связаны с тем, что у подавляющего большинства граждан не было культуры ведения дел, культуры хозяйственного оборота, культуры сделок и контрактов. А те, кто практически этим владел, этим занимался, были либо частью теневого бизнеса, который весьма на грани криминала, с соответствующей культурой, либо элементом полулегального бизнеса, сросшегося с коммунистическими руководителями, тоже с соответствующей культурой. Это мы наблюдали в ряде регионов нашей страны. В результате победила та новая культурная модель бизнеса, которую мы радостно наблюдаем сейчас, в наше время.
В политической сфере царил примерно тот же оптимизм. Слово «идеология» было, безусловно, ругательным. Опять же, довольно ругательными были слова «национализм», «империя». И предполагалось, что в области политики и политической культуры мы, сбросив коммунистов, как-то так сами замечательно благоустроимся. Да и вообще, как известно, никакой идеологии не надо, она рассматривалась как некое страшное зло, которое давит, калечит и т.д. В общем-то все базировалось на том известном принципе, что человек добр и разумен. И что это так будет и в экономике, так это будет и в политике, в идеологии. Причем об этом говорили практически все, не выключая, допустим, Александра Исаевича Солженицына. Смотри его «Письмо к вождям».
Тем не менее с национальной идеологией получилось примерно так же, как с бизнес-культурой. То есть прочие равные условия исчезли, а благоприятен день не наступил. Потому что выяснилось, что прежнее небывалое морально-политическое единство советского народа — это, конечно, не бог весть что, но полный вакуум, полное отсутствие национального сознания — тоже не радость. Просто потому, что национальная идеология предполагает какое-то общенациональное чувство; ее можно сравнить с языком, владеющие которым лучше могут общаться с собой и лучше понимать друг друга. В принципе, конечно, было бы удобно, наверное, если бы все говорили на языке эсперанто. Он очень простой, тут все понятно. Тем не менее как-то люди предпочитают говорить на своих национальных языках. Конечно, здесь может быть какой-то вопрос, какая коммуникация нам дороже. Если нам, допустим, дороже разговор с внешним миром, то можно проникнуться, скажем так, стандартизированной идеологией, в которой понятия «национальные» и «националисты» являются глубоко ругательными. Если для нас более насущна внутренняя коммуникация, внутри народа, между собой, то ставить на то, чтобы наша идеология была максимально приятна каким-то другим народам и государствам, это не столь уж насущно.
В рамках хозяйственной идеологии мы наблюдаем, что рынок и общечеловеческие ценности действительно все расставляют по своим местам. Но вопрос в том, по каким именно местам и что они расставляют. Славно, что все будет расставлено по своим местам, но при этом не указывается, в какое место будут расставлены Россия и русские. При том что этот вопрос, конечно, не лишен некоторого интереса. В принципе, скажем прямо, история — это вообще кладбище народов, государств и империй. И нигде не сказано, что Россия заведомо никогда не попадет на это самое кладбище, которым является всемирная история. Но тут возможен несколько другой взгляд.
У Солженицына в «Красном колесе» есть такой герой, профессор по прозвищу Звездочет, который летом 1914 года говорит, что вот зачем-то нужно, чтобы России не сломали хребет. Он не может объяснить, зачем нужно, почему нужно, кому нужно… Нужно и все тут. Как раз национальные чувства, национализм -это действительно в огромной степени вопрос веры. И о неизбежности национализма можно говорить только в том смысле, что национализм, конечно, будет всегда, как необходимая форма самоорганизации нации. Вопрос в том, будет ли этот национализм звериный или это будет национализм просвещенный. Чем больше мы будем говорить о том, что национализм — это бяка, и агитировать за общечеловеческие ценности, тем с большей гарантией мы получим национализм звериный.
Сергей Чапнин
Церковь, культура, русский национализм
Размышляя о культуре, национализме, языке и модернизации, мы ищем правильную картину мира. Что-то нам подсказывает: мы ее потеряли и никак не можем найти. И это неизмеримо более серьезная проблема, чем поиск конкретных механизмов и инструментов модернизации.
Я не ставлю своей задачей представить позицию Русской православной церкви по этим вопросам. Это скорее размышления о церковном контексте тех проблем, которым посвящена сегодня наша встреча.
Культура
Ранее в дискуссии уже прозвучало, что мы находимся в постимперском состоянии. Даже 20 лет спустя мы не можем равнодушно говорить о распаде Советского Союза. Однако мы по-прежнему хотим называть наш мир русским. Мы хотим говорить о русском народе и русской культуре. Между тем, всё это уже давно советское или, точнее, постсоветское. И это не «замороженное» постсоветское, а активно развивающееся. Мы используем неверные понятия для описания нашей реальности.
Ценности постсоветской культуры весьма противоречивы и не складываются в единую картину.
Как следствие мы утратили способность говорить о себе, о предках, друг о друге положительно, создавать убедительные и привлекательные образы. И в конечном счете это привело к тому, что ни в высокой культуре, ни в массовой нет положительного образа современной России. Мы сами себе не нравимся и друг друга не уважаем. Что уж тут претендовать на то, чтобы нравиться другим? И какая тут может быть модернизация?
В центре нашей национальной системы ценностей и одновременно — со всеми плюсами и минусами — в центре новой национальной мифологии находится лишь одно событие — победа в Великой Отечественной войне. Эта победа воспринимается как единственное священное событие нашей истории ХХ века. Празднование Дня Победы сконструировано как религиозное действие, в котором участвуют — или, по крайней мере, которому сочувствуют — большинство россиян.
Формируется подобие гражданской религии. Тема победы настолько «свята», что говорить о ней можно только в тех рамках, которые усвоены массовым постсоветским сознанием (поэтому приветствуются фильмы типа «Мы из будущего» и не приветствуются фильмы типа «Рио-Рита» — о поражении поколения победителей).
Между тем, в основе этой гражданской религии лежат не христианские ценности, смыслы и символы, а вполне языческие, отчасти переосмысленные коммунистической пропагандой.
А чего стоит всеобщее поклонение огню на 9 мая? Этот огонь выходит из звезды или из руки, держащей факел. Стоит напомнить, что в рамках христианской культуры огонь — многозначный символ. Это может быть огонь Богоявления (например, образ горящего и несгорающего куста — Неопалимой купины) и огонь суда и проклятия: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный» (Мф. 25:41). Однако огонь, выходящий из земли, есть образ ада, геенны огненной, гнева Божия…
Некоторые священники готовы признать, что вечный огонь — это гражданская святыня 1 . На эту формулу следует обратить пристальное внимание. Она подтверждает, что идет формирование гражданской религии. Соединение этих двух слов еще 100 лет назад было невозможно. Святость — это неотъемлемое качество Бога и только Бога. Приложить к нему светские, гражданские понятия невозможно.
Что происходит с культурой, в центре которой находится «День Победы»? На мой взгляд, у этой культуры формируются весьма опасные черты:
- сохранение и, более того, культивирование «образа врага»;
- героизация войны и забвение войны как трагедии;
- острое переживание ущемления национальной гордости («Мы же победители, а теперь смотрите, как мы унижены»);
- примитивное понимание патриотизма;
- оправдание победой всего, что случилось с Россией в ХХ веке, и прежде всего тоталитарного режима и лично Сталина.
Здесь мы подходим к очень важному вопросу: как Церковь относится к современной культуре и какое место в ней занимает?
Исследований никто не ведет, однако очевидно, что единого (соборного) ответа у Церкви нет. И вряд ли Русская православная церковь — слишком большая Церковь — может сегодня сформировать единую позицию по вопросам, которые не являются сугубо церковными. Всю вторую половину ХХ века идет формирование нескольких во многом самостоятельных субкультур, причем каждая из них прямо или косвенно претендует на то, чтобы быть выразителем подлинно церковного опыта.
Первая церковная субкультура готова инкорпорировать элементы советской культуры и делает это, утверждая, что советская культура более христианская по своему содержанию, чем современная.
Это наиболее многочисленная группа. В нее входят практически все неофиты, в том числе и принявшие священный сан в последние 10-15 лет. В эту группу, естественно, входят и те православные, которые заявляют о своем членстве в коммунистической партии. Представители КПРФ утверждают, что таких около 30 процентов.
Для этой группы характерно стремление к социальной и культурной самоизоляции, крайнее недоверие к любым формам «западного», оформленного целым рядом стойких мифов. Эти мифы, как правило, специфически церковные:
- угроза экуменизма, понимаемого буквально — как подчинение православной церкви католикам или протестантам;
- угроза неообновленчества, понимаемого как реформирование православного богослужения и отказ от «устаревших» церковных традиций;
- крайняя степень недоверия к государству, ведущему «антинародную политику» и внедряющему средства тотального электронного контроля, СНИЛС, УЭК и ювенальную юстицию и т.п.
На этих угрозах строится критика патриарха и Священного Синода. Эта критика регулярно повторяется, на нее даются ответы, однако мифы остаются очень стойкими.
Обобщая, можно сказать, что это православие без традиции, то есть усвоенное без личного опыта общения, по книгам или суррогатным семинарским курсам, теоретически.
Его представители продолжают бороться с церковными проблемами ушедшей советской эпохи — экуменизмом и агентами КГБ внутри Церкви, но сегодня это уже не реальные проблемы, а фантомные боли.
В недрах этой группы формируется то, что поэт Ольга Седакова назвала церковной идеологией . Эта идеология «защищает своего адепта от встречи с реальностью и от встречи с Богом, предлагая ему иной, лучший мир, где все ясно и все правильно». 2
Вторая церковная субкультура сохраняет преемственность с церковным подпольем 1930-1950-х годов, с прошедшими лагеря и тюрьмы священнослужителями дореволюционного воспитания. Эта группа последовательно и сознательно не принимает ничего советского . Однако делает это спокойно, неагрессивно. При этом вторая субкультура открыта к современной высокой (не массовой) культуре.
Представители этой группы хорошо понимают универсальный характер восточнохристианской культуры, но знают, любят и ценят те формы культурной традиции, которые сложились в лоне русского православия.
Вторая группа состоит из двух больших частей. Во-первых, это православная интеллигенция в больших городах, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге — несколько десятков больших приходов, которые играют важную роль в жизни Церкви.
Во-вторых, это приходы Зарубежной Церкви, разбросанные по всему миру.
Несмотря на то что эта группа сравнительно немногочисленна, у нее большой церковно-общественный и культурный потенциал.
Наконец, как и положено в эпоху постмодерна, есть третья церковная субкультура , которая, с одной стороны, заявляет о своей связи с церковными катакомбами, по крайней мере имитирует эту связь, но с другой стороны, полностью воспроизводит советскую культурную матрицу. По сути эта группа произвела прямую замену терминов «коммунизм», «советский» и т.п. на «Святая Русь», «православный» и подобные.
Вербальное и шире — публичное — выражение этой группы нередко выглядит малоубедительно и даже карикатурно.
Вот, например, священник Александр Шумский комментирует землетрясение в Японии на портале «Русская народная линия»: «Практически все русские люди в один голос, не сговариваясь, утверждают, что страшный природный катаклизм в Японии есть возмездие этой стране за оскорбление нашего Отечества… После посещения Курильских островов российским президентом в Японии топтали его портреты, сжигали и рвали российский флаг. Флаг любой страны есть ее главный символ. Разрывание и сжигание флага означает символическое уничтожение страны. За символическими действиями, как правило, следуют практические, Япония к ним, очевидно, готовилась. Вот и вернул ей Господь бумерангом то, что причитается за ошибочные символические действия и намерения». 3
Очевидно, что третья группа — это носители полусектантского сознания внутри Церкви. Именно из них рекрутируются различные «затворники» типа «пензенских сидельцев» и большинство активистов так называемых «православных пикетов».
Национализм
В последние три-пять лет в Церкви растет внутреннее напряжение между формой (именем) и содержанием. Дело в том, что последние 70 лет Церковь в России называется Русской православной (до октябрьского переворота — Российской греко-кафолической), и сегодня великороссы претендуют на то, чтобы по своей национальной идентичности Церковь была русской. Однако в составе Русской православной церкви находятся автономные, в большей или меньшей степени самоуправляемые Церкви Украины, Белоруссии, Молдовы и Прибалтики. Русская идентификация может привести к дезинтеграции и существенному сокращению канонической территории Московского патриархата. Таким образом, русский национализм следует назвать одной из серьезнейших угроз для Церкви.
И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на позицию патриарха Кирилла, выраженную в его заявлении в связи с беспорядками на Манежной площади. Отметив «особый вклад Русской православной церкви в сохранение межнационального мира и в Российской империи, и в современной России», патриарх подчеркнул: «Нужно создать невыносимые условия для деятельности любых радикальных групп как среди этнических меньшинств, находящихся в диаспоре, так и среди коренного большинства» 4 .
В этом тексте не было ни слова, ни даже намека на поддержку или симпатию к русским националистам. И это многих расстроило. «Мне бы хотелось, чтобы Русская православная церковь, а точнее, наш патриарх Кирилл не боялся слова «русский» и обращался к нам «русские братья и сестры». Меня расстроила речь патриарха после событий на Манежке» 5 , — заявил Константин Кинчев, лидер рок-группы «Алиса» на встрече с православной молодежью 31 марта.
Формирование концепции «русского мира» — это попытка преодолеть угрозу радикализации русских националистов внутри Церкви. Концепция «русского мира» должна привести, с одной стороны, к локализации русского национализма, с другой — к представлению русской культуры как универсальной, а русского языка — как языка международного общения.
Русский язык
Поскольку одной из тем является русский язык, следует пояснить, какова ситуация с русским языком в Русской православной церкви. Следует признать, что в Церкви сохраняется двусмысленность в отношении к русскому языку:
- с одной стороны (это преимущественно первая группа), Церковь очень настороженно относится к русскому языку, считая его языком «второго сорта» и отвергая возможность совершения богослужения на русском языке. Однако эта позиция не жесткая, и значительная часть второй группы допускает такую возможность и даже частично это практикует.
- с другой стороны, Церковь понимает необходимость проповеди на современном русском языке, но при этом она сильно обременена тяжелым и громоздким стилем XIX века и понимает, что на современном языке надо говорить значительно лучше и больше, сегодня это получается не очень хорошо.
Возможно ли активное участие Церкви в сохранении, пропаганде и развитии русского языка? Да, возможно. Но это не является для Церкви актуальной задачей.
Выводы
Что же делать? Как и на чем строить будущее? Вопрос не в программах и не в финансировании. Первая и главная перемена, которая должна произойти — это преодоление декларативного характера нашей системы ценностей. Не должно быть раздвоения сознания: ценности, которые мы называем своими, должны найти выражение в личной, общественной и политической жизни. На этом можно построить нашу культуру будущего.
У Церкви сегодня нет ресурсов и творческого потенциала, чтобы задавать тон в формировании культуры современной России. Но в этом нет ничего страшного. У государства такого потенциала тоже нет. Вопрос в том, кто и какие усилия может объединить для решения этой задачи.
1 Священник Евгений Смирнов: «Что касается Вечного огня — это символ светский, но Церковь относится к нему как к гражданской святыне. Ведь он учреждён не в честь какого-то отдельного правителя, или какой-то идеологии, а в память о воинах, отдавших жизнь за правое дело». // http://skatinfo.ru/also/also_166.html
2 Ольга Седакова. Субкультура или идеология? // http://religo.ru/columns/14179
3 Свящ. Александр Шумский. Конец «японского чуда» // http://ruskline.ru/news_rl/2011/03/14/konec_yaponskogo_chuda/
4 Заявление Святейшего Патриарха Кирилла в связи с беспорядками на Манежной площади // http://www.patriarchia.ru/db/text/1341558.html
5 Костю Кинчева расстроил патриарх Кирилл. // http://kp.ru/daily/25661/823958/
Сергей Васильев
Бразилия: модернизация без национализма
Пример Бразилии необычайно важен; Бразилия сейчас — главный геополитический конкурент России. Потому что эта страна примерно такого же размера, сопоставимого уровня развития, а главное, сравнимого исторического опыта. На протяжении всего ХХ столетия она не могла выбраться из ряда ловушек развития, а в последнее 20 лет совершила институциональный прорыв; прорыв экономический, социальный, и если институциональная Россия в последнее десятилетие системно сползала назад, то Бразилия двигалась вперед. При этом само выражение «бразильский национализм» вызывает усмешку. Как вызвало бы усмешку выражение «американский национализм». Мы ведь никогда не говорим — американский национализм, мы говорим — американский империализм. Но про Бразилию даже этого сказать не можем.
Между тем, национализм в Бразилии существует. И я бы его определил как крайне конструктивный гражданский национализм с учетом нескольких факторов складывания бразильской нации. Бразилия имеет ту особенность, что в течение первых 200 лет колонизации она была забыта своей метрополией. Сначала Португалия была слишком занята на Востоке, потом Португалия была захвачена Испанией и нация сложилась как бы сама по себе. Европейцы-переселенцы, попавшие в совершенно другие условия, очень быстро отрывались от своих корней и уже через 200 лет чувствовали себя другой нацией, особенно с учетом того, что в XVII веке они в одиночку отбили голландское вторжение, оказывая сопротивление в течение 30 лет. После этого бразильская нация осознала себя как реальное и самостоятельное явление. Вследствие чего очень легко прошло освобождение от Португалии в XIX веке. Хотя часто раздел проходил в буквальном смысле слова по семьям. То есть один брат оказался бразильцем, а другой оказался португальцем.
Второй бразильский фактор, очень важный (и этого не было в Соединенных Штатах Америки), — изначально сформировавшаяся чрезвычайная расовая толерантность. Она связана вот с чем. Во-первых, в Бразилии происходила массовая метизация — вовлечение в реальную государственную и экономическую жизнь индейского населения; они проходили крещение, им давали христианские имена. И в нескольких штатах лингвофранко была на базе индейского языка. Бразилия не знала такого печального опыта, как массовое изгнание индейцев в резервации — опять же, в отличие от США. И второй фактор заключается в том, что мулаты очень быстро втягивались в гражданское общество. Дети от смешанных браков сразу становились свободными. Но и этого мало. Масштабы добровольного отпуска рабов на свободу превосходят всякие прецеденты в других странах. То есть к моменту отмены рабства уже сформировался средний класс из мулатов. Это важное обстоятельство, во многом объясняющее, почему бытового расизма в Бразилии не было и нет. Хотя надо сказать, что в отношении карьеры он просматривается: в высшем классе буржуа вы мулатов не увидите. А в высшей политической власти нет немцев. В парламенте я немецких фамилий вообще не вижу, хотя этнических немцев в Бразилии очень много.
Третий момент — это, я бы сказал, национализм элиты. Сегодня мы говорим о двоемыслии нашей элиты, по своим взглядам она националистическая, а детей отвозит за границу, капитал отгоняют туда же. А все бразильцы абсолютно уверены, что Бразилия -лучшая страна в мире. Они это подтверждают своим примером. Бразильской эмиграции практически нет — ни низшего класса, ни профессионального класса, ни высшего класса. Они жили, живут и будут жить в Бразилии. И это очень важно, потому что бразильская элита может ставить, ставит и всегда ставила долгосрочные цели для страны. Консенсус по поводу этих целей присутствовал 200 лет. Идея создать столицу в середине страны возникла в 1820 году. Конституция этой идеи была предложена в 1891 году, а реализован замысел был в 1960 году. Мы можем только позавидовать такой последовательности действий элиты.
Четвертый момент, о котором я хотел бы сказать, имеющий отношение к культуре. Элита, конечно, была всегда обеспокоена крайней дифференциацией — социальной, этнической, расовой, образовательной и культурной. Если мы посмотрим на бразильскую культуру, то увидим, что культурные образцы очень быстро движутся снизу вверх и сверху вниз. Например, культы африканских богов стали частью общей бразильской культуры. Праздники богини Еманджи и прочее. Карнавал — это вообще апофеоз культуры мулатов, который стал общенациональным фактором. Скажем, главное блюдо бразильцев, фейжада, на самом деле — это блюдо рабов. То есть вся элита спокойно в субботу ест весьма непривлекательное блюдо. Нравится не нравится, а ест. Потому что кухня — это элемент культурного единства. Элита понимает, что в такой разнородной стране она должна обеспечить сплошную, целостную культуру во всех ее проявлениях, от эстетического до бытового.
Последнее, о чем скажу — наверное, все это знают без меня. Есть принципиальная позиция производителей бразильских сериалов. В каждом сериале должно быть три семьи. Одна — из бедных слоев, вторая — из среднего класса, а третья — из богатых слоев. Это для того, чтобы вся страна смотрела сериалы. И для того, чтобы ощущала себя единой.
Контекст: фрагменты дискуссии
Сергей Цыпляев
— Прежде всего хочу высказать несогласие с тезисом о неизменности культурной матрицы, которая задает нам дорогу на все оставшееся время. Во-первых, в этом случае мы не сможем объяснить, как и когда она возникла, на каком этапе — на первобытно-общинном или позже. Во-вторых, это противоречит одновременно высказываемому тезису о культурной деградации, утрате способностей, нравственных ориентиров. Любое общество развивается, включает в культурную матрицу свой коллективный опыт, опыт окружающих сообществ. Культурная матрица постепенно деформируется. Да, процессы эти обычно очень медленные, их нелегко увидеть на временном отрезке одного поколения, но адаптация общества к изменениям окружающей среды идет непрерывно. Исключения — точки бифуркации (точки «катастроф»), в которых ряд незначительных, случайных событий оказывает определяющее влияние на выбор исторической траектории. Правящий класс часто использует понятие неизменяемой культурной матрицы как оправдание очередного неудавшегося большого скачка, когда мы хотим очень быстро все поменять и мгновенно правильно наладить.
Второй тезис, с которым я не могу согласиться, — что культурная матрица очень жестко задает рамки возможного развития для любой страны. Человечество поставило два решающих эксперимента. Это две Германии и две Кореи. Одна история, одна культура — и поразительная разница в результатах. Обратное воздействие искусственно созданных систем на культурную матрицу тоже удалось отследить в случае двух Германий — объединение оказалось гораздо труднее, чем думалось, поскольку проблемой оказалось совмещение уже сложившихся разных культурных практик. Дело в том, что культурная матрица никогда не бывает однозначной и однородной. Она соткана из разных элементов, подчас противоречащих друг другу. На что вы обопретесь, то и получите. Вы можете культивировать, поднимать одни части и подавлять другие. Две Кореи демонстрируют просто экстремальное расхождение на одном культурно-историческом базисе. В российской культуре есть и воля, граничащая с анархией, есть и жесткое авторитарное централизованное государство. Есть и этика труда, есть и холопское безразличие. Вы можете сделать акцент на одном, можете сделать на другом. Получится совершенно разный результат.
Конечно, наша культурная матрица — это основа и опора нашего развития, и других вариантов нет. Но это и тормоз в той бешеной конкурентной гонке, которая сегодня существует в мире. Мы не можем развиваться изолированно, абстрагируясь от внешнего мира, закрыв форточки, занавесив окна. Через некоторое время мы просто сойдем с исторической арены, потому что проиграем это соревнование. Уже есть много стран, которые оказались на обочине и перестали быть ведущими игроками, никто не гарантирует вам вечного существования.
Наша принципиальная проблема — это, конечно, очень сильная тоталитарная культура, которая проникает во все общественные поры и воздействует на все вокруг. Она начинается с семьи, когда мать как бешеная орет на ребенка, угрожает расправой и кричит: «Я сказала — делай так!» Она требует, чтобы он исполнял приказ, не рассуждая. В школе требуют исполнять приказы, не рассуждая. И всегда есть только одно единственно правильное мнение учителя. А каждый ребенок, который попробует спорить или говорить другое, тут же получит по голове, потому что его воспитывают по принципу: не высовывайся. Такое есть не только у нас. С этим мучаются японцы, у которых любимая поговорка -гвоздь, который торчит выше всех, забивается первым. Но у японцев имеется множество других факторов, которые компенсируют отрицательный эффект тотальной матрицы. А у нас их нет.
На фоне ускоряющегося технического прогресса у нас практически не происходит развитие социальных технологий. Наша самая популярная социальная модель — первобытная, это «вождь и племя». Других социальных технологий, к сожалению, мы не освоили. Надо сказать, что эта культура доминирует не только на низком образовательном уровне. Интеллигенция тоже не может выйти из этой традиции. Если мы придем в любое научное учреждение, в любой университет, то увидим то же самое. Есть один непогрешимый вождь, любой человек, который будет возражать или пытаться конкурировать с ним, будет либо мягко отодвинут, либо жестко уничтожен. Политические партии у нас, к сожалению, тоже складываются по системе тоталитарной секты во главе с каким-нибудь гуру. Это мы видим постоянно и в государстве, и в бизнесе. Категорически необходимо ограничение срока полномочий вождей, иначе они начинают подавлять возможных конкурентов, чтобы как можно дольше оставаться «хозяином горы». Такой «неестественный отбор» приводит к вырождению всей системы управления, утрате способности к лидерству.
Есть один народ, одна идея и один вождь — эта привычка неприятия разнообразия, неприятия конкуренции в значительной степени блокирует развитие на постиндустриальной фазе. Это можно было пережить во время индустриального рывка, когда все концентрировалось на небольшом числе определенных направлений, строились большие трудовые армии, выполнялись определенные, четко очерченные вещи — наварить стали, добыть угля, произвести цемент. В информационную эпоху никто не знает, кто, где и когда придумает новую вещь, свобода и конкуренция стали критическими факторами развития. Если мы не будем культивировать свободу, конкуренцию, возможность разнообразия, начиная с образованного класса и не дожидаясь государственных приказов, тогда, грубо говоря, мы плохо закончим.
В нынешней ситуации наша культурная матрица претерпевает сильнейшую нагрузку. Россия 100 лет решает задачи буржуазно-демократической революции — «свобода, равенство, братство». До сих пор не удается выполнить эту программу. Мы только что говорили, что Россия — по-прежнему сословное общество. Есть новые дворяне — чиновники, которые ездят с мигалками и могут давить кого угодно. Для них существует отдельная практика применения законов. Есть особое сословие — это предприниматели, которых надо доить и воспринимать как уголовников. И все остальные. Задачу равноправия нам не удается решить много лет, после каждой революции чудесным образом формируются «касты». Если некое явление воспроизводится в разные эпохи, в разных исторических обстоятельствах — значит, оно укоренено в культуре, и работать нужно с ней, а не только с внешними предпосылками, не ограничиваясь переменами социально-политических условий. Обратите внимание: сегодня ключевая национальная идея — закон един для всех. Люди, которые протестуют и требуют равноправия, пытаются сделать серьезнейший скачок в культурном развитии России, который никак не получается. Это создание единой гражданской нации. Если мы так будем понимать слово «национализм», я думаю, мы сможем договориться. Не почва, кровь и форма носа, а отношение к истории, к обществу и дальнейшему движению являются определяющими.
Решение этих проблем предполагает модернизацию культуры. Я не согласен, что культура — это нечто сакральное. Если это нечто сакральное, значит, с этим мы и умрем. Если мы не возведем предпринимательскую доблесть хотя бы где-то близко к военной доблести, то страна вряд ли выдержит мировую конкурентную гонку. Сейчас класс предпринимателей в нашем общественном сознании — это просто воры, кровопийцы, которые сидят на шее у народа. Я не знаю, как мы в этих условиях будем агитировать людей брать на себя бремя предпринимательства, проявлять изобретательность и смелость, рисковать деньгами, жизнью, кроме самых отмороженных и абсолютно бесстрашных людей, которые будут заниматься подобными делами при любых условиях. Речь идет о введении в культуру способности творить новое, проявлять инициативу, не ждать инструкций от «Василисы Премудрой».
Хочу подтвердить, что культуру нельзя сводить к искусству, о чем здесь очень много говорилось. А науку вы куда денете? Как представитель «естественно-научной диаспоры», я крайне расстраиваюсь в связи с тем, что мы постепенно утрачиваем возможность выполнять сложные творческие функции в этой области. Мы плохо понимаем естественно-научную картину мира. Если включить телевизор и послушать, то предстанет «мрачное средневековье» с гороскопами, колдунами и ясновидящими. Общий естественно-научный уровень, конечно, проседает. С какого-то момента мы можем утратить возможность поддержания сложных систем, будь то авиация, атомная энергетика, информационные технологии. Способность поддерживать и развивать сложные социальные и технологические системы — это элемент культуры, причем один из важнейших. При всем уважении к гуманитариям, мы не можем ограничиться только литературой, музыкой, живописью и кино. Тогда мы будем похожи на Африку. Они очень весело танцуют, поют и рисуют, прекрасные ребята, замечательно все и хорошо, только мало что умеют делать. Способность нации к созданию новых идей, новых продуктов важна принципиально, это ключевой элемент культуры для ее выживания. Две короткие реакции на дискуссию.
Первое. Я внимательно послушал проект Дмитрия Быкова, призывающий вернуться в благословенные 1970-е годы и начать взращивать интеллигенцию с помощью авиамодельных кружков. Он интересен, но для его реализации придется сделать первый шаг к 1970-м — закрыть границы на въезд и на выезд. Потому что иначе интеллигенцию очень тяжело зафиксировать, она постоянно съезжает в зону интеллектуальной и прочей свободы. А на ее место приезжают представители других стран, пригодные для занятия мест у основания социальной пирамиды. Это одна из принципиальных угроз, поскольку общий интеллектуальный уровень страны при этом понижается.
Последняя провокационно-злобная реакция. После Второй мировой войны в Германии было ликвидировано министерство культуры на федеральном уровне и сохранено только на уровне земель. Основная мысль была та, что именно централизованное министерство культуры приводит к унификации, к насаждению тоталитарных стереотипов и не дает возможности развиваться культурному многообразию. Первая часть дискуссии убедила меня, что Германия была не столь уж не права.
Игорь Бунин
— Про национализм и его неизбежность я обязательно скажу чуть позже, а пока — о неизменности и «матричности» нашей цивилизации. Тут слишком много мифов, лозунгов и неточностей. Возьмем такую тему, как сталинизм. Я с большим уважением отношусь к Сергею Караганову и Михаилу Федотову, которые подняли эту тему в рамках совета при президенте. Но все рассуждения о том, что культ Сталина остается неизменной ценностью для массового сознания, что это часть нашей «матрицы», упираются в простые вещи, которые фиксирует социология.
Первое. Вопреки всем представлениям, растет безразличие к Сталину. Рейтинг, скажем ненаучно, его популярности упал с 38 процентов в 2000 году до 12 процентов сейчас. Это естественно, время уходит, и он для массового сознания становится этаким Иваном Грозным, почти мифологической фигурой, далекой и не очень-то актуальной.
Второе. Действительно сохраняется доля людей, которые к нему хорошо относятся. Но это же надо объяснять! Это же не сам Сталин сохраняет популярность! Мы имеем дело с массовой реакцией на то, что происходит у нас сейчас; человек в серой сталинской шинели символически противопоставлен коррупционерам, вершителям произвола и прочее.
Третье. Его система управления и природа сталинистской власти отторгается большинством россиян. 58 процентов россиян считают, что жертвы, которые понес Советский Союз в эпоху Сталина, нельзя оправдать целиком и полностью.
Мы только что провели исследование, которое, наверное, даст какой-то ответ на вопрос о модернизации, культурной матрице, национализме и всем остальном. Исследование многоуровневое. Первый уровень — экспертный опрос; многие его участники присутствуют здесь. Там был некий крен в сторону либерализма, слишком мало людей, связанных с нашими кремлевскими апологетами, но все-таки костяк опрошенных экспертов пользуется общим уважением. Вторая часть исследования — фокус-группы, причем двухуровневые. Тут тоже есть некий крен в сторону продвинутой части общества. Это не то молчаливое большинство, которое смотрит только телевизор, но и не партия интернета, хотя некий перевес интернет-пользователей имеется, по той простой причине, что без некой включенности в современную жизнь невозможно ответить на вопросы, которые мы сформулировали. Третья часть — обычный массовый опрос.
Начнем с экспертов. Они выносят абсолютный приговор существующей системе. Она не имеет права на существование. Как таковая, полностью. Она инерционна, это застой, мы катимся вниз. Причем не могу сказать, что приговор ей выносят революционно настроенные люди типа Сатарова. Скорее лояльные либеральные специалисты. Переходим на уровень фокус-групп. Было задано 12 вопросов, причем, повторяю, двухуровневых. Только по трем пунктам выявляется консервативное большинство. Примерно 65 процентов не желают увеличения пенсионного возраста, что вполне естественно. Большинство считает необходимым сохранение почти советской системы социальной. Тоже вполне естественно, потому что — а где же лечиться? И третий срез, где люди разошлись примерно пополам: 55 процентов за то, чтобы мы установили нормальные отношения с Западом, примерно процентов 37-40 за то, чтобы мы отдалились от Запада. Тоже цифры не совсем хорошие, могли бы быть и получше. Причем среди этих западников есть прагматики, и есть настоящие западники, которые ориентированы на Запад как на образцовую цивилизацию. По всем остальным вопросам модернизационная повестка целиком и полностью принята. За демократизацию 80 процентов. Против — восемь. За частное предпринимательство примерно соотношение 60 на 30, за солидарность против стабильности (у нас не совсем удачно получилась эта тема, мы говорили о том, что делать с мигалками, спрашивали, что главное для людей сейчас — стабильность или можно немножко затронуть интересы номенклатурной группы) — тоже подавляющее большинство.
По национализму. Цифры тоже скорее толерантные. Потому что ставился вопрос: что вы предпочитаете — жить в семье единой или быть исключительно русскими и т.д. Соотношение примерно 70 на 20. По остальным вопросам — по регионам, по госкапитализму и т.д. — это уже не важно. Главное, что кроме трех пунктов модернизационная повестка дня принята.
После этого мы предложили (уже на других фокус-группах) четыре сценария, спросив, какие из них участники фокус-групп рассматривают как желательные, и какие — как возможные. Сценарий демократизации, технократический сценарий (власть берется за ум), сценарий статус-кво, инерции, и такой авторитарный — Россия сосредотачивается. Поразительно, что за статус-кво не проголосовал ни один человек. Правда, эти фокус-группы шли только в Москве. Но показательно, что статус-кво отвергнут. При этом большинство считает, что статус-кво все равно останется, что Россия ближайшего будущего — это страна, ориентированная на статус-кво, и что будет проводиться политика сохранения застоя, ничего не изменится. Или, в худшем случае, авторитарный сценарий будет. Никто не верит, что власть перейдет к демократическому сценарию и даже к технократическому.
Массовый опрос подтверждает основные тенденции, наметившиеся в фокус-группах и в опросе — экспертном. Из чего вытекает, что на самом деле некая сформировавшаяся в нулевые повестка дня (энергетическая сверхдержава, чоболи, государственно-частное предпринимательство, сохранение советской социальной системы и такой тип демократии, название которого вы все знаете) обществом не принимается. Не принимается элитами экспертными, более широким кругом «продвинутых» горожан, не принимается даже на уровне молчаливого большинства. Более того, если мы посмотрим те обсуждения, которые начались на другом, правительственном уровне, то видим, что и в правительственных кругах есть очень сильные сомнения, что можно вернуться к 2007 году и продолжить вектор прежнего движения. Нужен разворот. Конечно, без некоей политической воли реализовать его невозможно; более того, отчасти можно и сползти назад. Но все-таки это говорит о том, что мы находимся у какой-то точки бифуркации, которая может быть прогрессивной для нашей страны.
Вячеслав Никонов
— Сниму шляпу руководителя фонда «Русского мира» и надену шляпу декана факультета государственного управления. Тема влияния культурной матрицы на модернизацию является классической и в истории, и в политологии. Уже как минимум Макс Вебер в его «Капитализме и протестантской этике» доказывал, что современное западное общество было создано протестантской этикой. Сейчас опубликовано много трудов по влиянию конфуцианской этики на подъем Юго-Восточной Азии, трудов весьма обоснованных. Существует огромный комплекс литературы, есть классические труды и есть работы, в которых обобщаются классические труды. Пожалуй, наиболее классической работой по этой теме считается книга, вышедшая больше десяти лет назад под редакцией Самуэля Хантингтона и Лоуренса Хар-ринсона, которая называется «Культура имеет значение». В ней обобщены все существующие в мире концепции, представлены все ведущие авторы, которые пишут на эту тему. В конце книги напечатан перечень научно доказанных компонентов культурной матрицы, которые отрицательно или положительно влияют на модернизационные способности общества. Таких особенностей названо десять.
Первая особенность — ориентация социума во времени. Прогрессивное общество устремлено в будущее, поэтому люди обсуждают перспективы, намечают планы. Статичное или застойное общество, как правило, озабочено прошлым, устремлено в прошлое.
Вторая особенность — отношение к работе. Если в прогрессивной культурной матрице люди живут, чтобы работать, то в застойной люди работают, чтобы жить.
Третья . Отношение к деньгам. Прогрессивная культурная матрица исповедует бережливость. Застойная — расточительность.
Четвертая особенность — роль образования. В прогрессивной матрице образование считается главным условием успеха. В застойной матрице можно достичь жизненного успеха, не имея хорошего образования.
Пятая . Путь успеха. В прогрессивной культуре личные заслуги становятся главным условием успеха. В застойной успех обеспечивают связи, блат, семейственность.
Шестая . Характер социализации. В прогрессивной культурной матрице индивидуум ассоциирует себя со страной и с нацией, в статичной он себя ассоциирует с семьей, знакомыми, земляками.
Седьмая особенность — этика, этические нормы. В прогрессивных культурных матрицах эти нормы заложены, в остальных — нет.
Восьмая . Отношение к закону. Общество с прогрессивной культурной матрицей закон воспринимает буквально, в других матрицах закон воспринимается релятивистски.
Девятая . Распределение власти. Прогрессивная культурная матрица предполагает децентрализацию власти и горизонтальные связи в управлении. Застойная матрица предпочитает централизацию и властные вертикали.
Десятая особенность, вызывающая, кстати, наибольшие споры. Это влияние светскости или религиозности на характер общественных отношений. В принципе считается, что при прочих равных возможностях светское общество более ориентировано на прогресс, чем религиозное, хотя существует множество исключений. Те же самые США, которые являются одним из самых религиозных государств вообще и самым религиозным из христианских государств в частности. Можно вспомнить историю нашей страны, где носителями протестантской этики выступали весьма религиозные старообрядцы, создававшие протестантскую матрицу.
В заключение о том, что считается доказанным. Ни одна культурная матрица не является чем-то вечным, неизменным и застывшим. Каждая культурная матрица, безусловно, может меняться. Та же самая протестантская этика в Европе, как известно, не существовала до Мартина Лютера. Потом она развивалась и распространялась многими поколениями проповедников. Более того, ими воспитывалась. А это значит, что матрица — и функция, и результат воспитания. Следовательно, и модернизационную матрицу можно и нужно воспитывать.
Андрей Зубов
— О культуре. Последние годы нам дали два странных примера, не знаю, обратили ли вы на них внимание. Во время последней войны в Ираке, когда Соединенные Штаты и коалиция брали Багдад, был полностью разграблен багдадский музей со всеми невероятными ценностями, старинной шумерской и аккадской культурой. Его грабили в основном сами иракцы, сами багдадцы. Потом эти предметы появлялись и появляются до сих пор на черном рынке. Когда происходила революция в Египте, тоже были попытки грабить крупные музеи, в том числе в Каире. Но сами египтяне выставили живые цепи, и знаменитый каирский музей был полностью спасен. Когда журналисты опрашивали молодых людей, которые стояли в этих живых цепях, те отвечали: это наша культура, это наша древность, это наше сердце. Мы должны сохранить сердце Египта. Такое должно быть отношение к культуре. Культура как твое бесценное сокровище. Не культура против кого-то, не национализм против кого-то, а любовь к своему до самопожертвования. Я вот думаю, если, не дай Бог, что-то произойдет у нас, какой сценарий разыграется — багдадский или каирский? Я хотел бы, чтобы был каирский. Я очень боюсь, что будет багдадский. Потому что мы также раздавлены, как Ирак был раздавлен Саддамом Хусейном. Наше общество разрушено. И без восстановления здорового, глубокого отношения культуры, без анамнезиса, воспоминания собственной культуры и собственной истории невозможно восстановление нации. Перед нами стоит колоссальная задача, и очень хорошо, что здесь на общее обсуждение были вынесены вопросы культуры.
Второй тезис. Было сказано первым докладчиком, что многие сейчас рефлексируют, вспоминают с ностальгией советское и даже сталинское прошлое. (Хотя мы видим, что это не совсем так, что и подтвердил уважаемый Игорь Бунин.) И как нечто само собой разумеющееся заявлено, что в 1937 году никто не вспоминал старой России. Это глубокая неправда. Если основываться только на рыбаковских «Детях Арбата», да, никто не вспоминал. Но если изучить перепись января 1937 года, в которой по воле Сталина был задан вопрос: ваше отношение к религии, то почти 60 процентов (58 с долями процентов) советского общества сказали, что они верующие люди. Подчеркиваю: не в обезличенных и анонимных опросах, а в именных опросных листах! Это было прямое, если угодно, свидетельство возвращения веры после безбожных пятилеток; заявляя такое, люди знали, на что они идут. Причем ничего подобного не было в 1918 году; тогда уровень массовой религиозности был существенно ниже. Иначе бы революции не произошло. Что же случилось через 20 лет после революции? Началась реальная ностальгия по той России, которую люди потеряли. Да, в советском высшем слое этого не было, но в народе — было. И именно поэтому Сталин пошел на Большой террор. Достаточно вспомнить письмо Маленкова и все прочее. Власть отреагировала на воспоминания об утраченном прошлом массовыми казнями, она выжгла эту эмоциональную память.
Так вот, 20-летнй цикл реакции на прошлое — постоянен. А переменной является реакция на реакцию; то, как реагирует на эту ностальгию власть. Замораживает ли она ситуацию, провоцирует ли ностальгические умонастроения, отвечает ли на вызовы фигурой умолчания. Наша власть эксплуатирует тему советского наследия и шаг за шагом подводит нас к застою. Наоборот, Великие реформы, 150-летие которых мы недавно отмечали и продолжаем отмечать, через 20 лет после их «запуска» Александром II вызвали к жизни контрреформы, начатые Александром III и продолженные Николаем II; именно они довели страну до революции. Но есть и третий вариант. Такой же 20-летний цикл в Германии после войны. В конце 50-х — начале 60-х годов настало время почти нацистской реакции, когда в германских городах проходили антисемитские демонстрации, началось возрождение нацистского духа. Но поскольку страна была демократической, свободной, молодое поколение заявило о себе. Юноши спросили своих отцов: кем вы были при нацистах? И как раз 1960-е годы, начавшиеся с реставрации национал-социалистических идей, с ностальгии по Третьему рейху, стали временем избавления от нацизма в следующем поколении.
Поэтому, я думаю, нам надо выбирать. В свободном обществе мы преодолеем советский синдром. В несвободном обществе, в авторитарном обществе никогда его не преодолеем и окажемся или перед необходимостью террора, не дай Бог, или перед фактом революции, что тоже далеко не самое лучшее для России.
Владимир Ворожцов
— Должен разочаровать профессора Зубова. Потому что историю о каирском музее он, наверное, узнал из репортажа «Аль Джазира», причем в англоязычной версии, или CNN. А вот информация, реально пришедшая оттуда, из Каира, свидетельствует о том, что только второй батальон синайской бригады, брошенный к каирскому музею с криками «Матаб, матаб!» (по-арабски — «лежачий полицейский»), перекрыл второй и третий выходы, а потом перебежками, стреляя холостыми вверх, выбил толпу из главного зала, который уже начали грабить. И если говорить о египетской традиции, то будем надеяться (если, конечно, в России нечто подобное случится, не дай, впрочем, Бог), что вовремя подойдет дивизия Дзержинского и мы сохраним все свои памятники. В отличие от известного вам музея в Багдаде, который после местного населения благополучно дограбили войска коалиции.
Но это — попутно. А по существу скажу вот что. Национализм, как любое влияние, всегда растет на какой-то почве. И самое удивительное, что культура почвой для национализма не является. Во времена СССР мне по долгу службы пришлось стать непосредственным свидетелем фактически всех конфликтов на его территории. И, к своему удивлению, я тогда обнаружил, что не было ни одного конфликта, который был бы этническим или национальным. Все они носили или социально-экономический, или социально-политический характер, а национальная составляющая была либо катализатором, либо вектором, направляющим и ускоряющим этот конфликт. Кстати, во время событий на Манежной площади мы видели ту же самую методику. Я вам напомню, что было два протеста. Был протест 7-го числа, направленный против коррупции в правоохранительных органах и проходивший под двумя четкими лозунгами — «Закон един для всех» и «Кто будет третьим?». Два портрета уже погибших и третий под большим вопросом. И лишь 10-го к этому протесту добавился этнический фактор, «Россия для русских». Поэтому, как это ни грустно, решение проблемы национализма — прежде всего социально-экономическая и социально-политическая задача. А культура может либо ускорить, либо замедлить процесс. Не менее, но и не более того. И вопрос о ее влиянии нужно обсуждать именно в таком ракурсе: замедлит или ускорит, но повлиять она не в состоянии.
Что же до культурной матрицы, то я с большой тревогой услышал фразу Даниила Дондурея о тюремном сознании. Я искренне рад тому обстоятельству, что профессор Дондурей в тюрьме не сидел. Биография у него другая. Но должен ему сообщить, что мы не связываем Достоевского и Чернышевского с тюремным сознанием. Хотя они, как вы знаете, имели достаточно непростой жизненный опыт и многое из него вынесли. Давайте говорить реально: в каждой государственной системе существует механизм иерархиализации, то есть выстраивание социума под определенные принципы. Когда взамен примитивного анархизма и индивидуальной вседозволенности формируются определенные системы и формы поведения. Задают их средства массовой информации, школа, армия, партия и тюрьма. В широком социально-политическом смысле они занимаются одним и тем же. И по большому счету, профессор Дондурей, публикуя статьи в своем журнале «Искусство кино», выполняет ту же самую функцию выстраивания неорганизованной кинематографической группы, которую применительно к з/к выполняет, скажем, смотрящий в тюремном бараке ИТК № 18.
И поэтому я просил бы вернуться еще раз к чему. Культура — явление целостное. Нет культуры только Чайковского и нет только культуры Достоевского. Если мы обсуждаем культуру как матрицу, мы ее должны рассматривать целиком. Она существует целостно и ценностно. Мы не можем в ее рамках оторвать одно от другого, третьего, четвертого. И говорить, что вот это как бы матрица тормозящая, а это матрица ускоряющаяся.
И еще. Было сказано, что наши школьники говорят одно, думают другое, делают третье, то есть торжествует двое- и троемыслие. Можно было бы согласиться, если бы в этом не было подтекста: у них хорошо и честно, у нас плохо и лживо. Я был во Франции во время предыдущих выборов президента, когда едва не победил Ле Пен. Системно рухнули экзитполы, потому что все французы, выходившие с избирательных участков, говорили, что они голосовали за кого угодно, только не за Ле Пена. А когда подсчитали голоса, оказалось, что в первом туре он занял надежное второе место. Классический пример, когда значительная масса европейского населения думает одно, а говорит другое. Потому что нетолерантно, потому что нехорошо, неправильно поймут, с работы уволят. В реальности духовный раскол и противоречие между внутренним и внешним миром в европейских странах страшнее даже, чем у нас. И начинаешь думать вообще о том, а что же принесет нам логика сегодняшней «цивилизованной культуры», не представляет ли она угрозу большую, чем нынешнее состояние раскультуренности.
Алексей Малашенко
— Коллеги, вы не спорьте по поводу Египта и Ирака. Если у нас что-то будет, то не как в Египте или же Багдаде, а как уже бывало в 1917 году, когда абсолютно всё взорвали, разграбили, а потом продали.
Что же касается матриц, то очень хорошо сказал Вячеслав Никонов, предложив классификацию разнородных матриц. Я тоже не знаю, у нас одна матрица, две матрицы, три… Но такое ощущение, что это вещь многосоставная и подвижная. И одна наползает на другую. Какая матрица в данной ситуации влияет больше, это вопрос и, между прочим, тема для дискуссий. Тем более что мы живем в многонациональном и мультиконфессиональном государстве, и у нас еще есть исламская матрица. А это намного интересней и намного жестче, чем русская матрица и матрица православная.
А про национализм я не знаю, что говорить. Зато знаю, что говорить об этнонационализме. Речь ведь не о государственном национализме, не о политическом, а об этническом; это именно он стал нашей общей проблемой, совершенно независимо от того, неизбежен ли он или «избежен». Он уже появился, он нарастает, он развивается. Разумеется, и по социально-экономическим причинам — тоже. Но имеется в нем и собственная внутренняя логика, не напрямую зависящая от внешних обстоятельств. Если мы посмотрим на Европу, где этнонационализм сейчас весьма силен, то там экономические проблемы не столь уж значимы. По крайней мере сейчас. А этнический национализм сгущается. Так или иначе, важно одно — будет ли он очень сильным или послабее, но очевидно, что он будет. И разговоры о том, что им можно управлять, верны лишь до какой-то степени. Для того чтобы это управление было эффективным, сами управители должны быть националистами, и вовсе не умеренными; иначе они не смогут говорить на одном языке с массой и ее за собой вести. Думаю, что это не самый лучший вариант, но его исключать нельзя. Во всяком случае, надо учитывать как возможность.
И никаких поползновений в прошлое. Тут многие тоскуют по временам СССР, говорят: там было хорошо. Наверное, было неплохо. Но уверяю вас, если тех, которые тоскуют по прекрасному далекому СССР, на недельку в него возвратить, они захотят обратно в наше кошмарное время. А те, кто защищают Сталина и критикуют действующую власть, вряд ли бы досидели до конца нынешнего заседания.
Евгений Кожокин
— Тут рассуждали про бунты, их типологию и матрицу. Я вспоминаю 1993 год. События в Белом доме. Абсолютно очевидно, что тогда мы прямым ходом двинулись по однозначному иракскому сценарию, который, к сожалению, пришлось останавливать танками. Это одна наша культурная матрица, матрица русского бунта, которая никуда не делась, она в 1993 году продемонстрировала, что она живет в нас. А другую матрицу, мне кажется, потрясающе описал в «Дне опричника» Владимир Сорокин, когда реалии эпохи Ивана Грозного плавно перетекают в наши дни, потом возвращаются обратно, и ощущение, которое рождает это произведение: так было, так есть и будет. Наша самая большая проблема в том, что у нас эти две матрицы. И как бы нам избежать ту и другую. А вот это мы никак понять не можем.
Алексей Подберезкин
— Взаимосвязь между модернизацией и национализмом очевидна. Хотя мы тему национализма, как ни странно, в рамках Совета по внешней и оборонной политике не обсуждали долгие годы.
Но все-таки начну с модернизации — без национализма. Мы много говорим о ней, но до сих пор не определились, что это такое и что же именно мы собираемся модернизировать. Сначала нам придумали концепцию социально-экономического развития. Это творение Министерства экономического развития с треском провалилось. С 2007 по 2010 год, пока концепция реализовывалась, в сферу инноваций были инвестированы огромные деньги, а прирост инновационной продукции упал. Мы это признали. Теперь дали поручение готовить новую концепцию, названную Стратеги-ей-2020. Причем сказали, что цели остаются те же, стало быть, она также будет ограничена узкой социально-экономической проблематикой. И делать ее будут те же самые люди; соответственно, провалится она с такой же скоростью.
Между тем, речь идет ни более ни менее как о стратегии развития нации. Не о наборе технических решений, а о стратегии долгосрочного национального развития. И здесь, конечно, фактор культуры в широком понимании слова необычайно важен. (Я полностью согласен с теми, кто говорит, что в это понятие входят и наука, фундаментальная прежде всего, и техника, и искусство.)
И сразу же — принципиальный вопрос.
Национальное богатство, как вы все знаете, состоит из трех частей. 75 процентов в развитых странах — это национальный человеческий потенциал. Примерно 10-15 процентов -это активы производственные: оборудование, технологии, все остальное. И 10-15 процентов — это природные ресурсы. Три неравные части. В развитых странах 95 процентов прироста ВВП дает национальный человеческий потенциал, в том числе — и прежде всего — культура, образование и наука. Мы такой модернизацией как раз не занимаемся. Мы говорим о том, что мы будем заниматься модернизацией активов. То есть 15-ю процентами национального богатства. Причем эти самые активы будем модернизировать на основе внешних заимствований. Хотя любой ученый понимает, что создать нечто принципиально новое вне национальной школы невозможно. Любое заимствование — с неизбежностью — представляет собой повтор отработанных решений с опозданием на пять-семь-десять лет. Но догоняющее развитие никогда ничего не догонит! Изначально вся схема и вся логика неправильна. Только с опорой на национальные научные, культурные школы и традиции, в том числе на национальную традицию духовности, про которую мы стыдливо как-то вскользь упоминаем, можно произвести качественно новый, подчеркну, качественно новый продукт. Евгений Ясин говорит о том, что мы должны на мировой рынок выходить с конкурентным продуктом уникальным, подчеркиваю, не с ворованным, не купленным, а уникальным. Как минимум три-четыре новаторских продукта в год мы должны делать. Это возможно только на базе национальной школы. Гагарин смог полететь благодаря существованию национальной научно-космической школы. На заемной базе он никуда не полетел бы.
И тут самое время вспомнить о национализме. Сейчас у нас все споры ведутся в рамках либеральной парадигмы. Если читаешь СМИ, смотришь телевизор, может показаться — ничего другого нет, есть только либералы разных типов, такие, сякие, властные, оппозиционные; между тем, есть влиятельная третья сила — национализм. Культурный национализм, подчеркиваю. Его иногда называют гражданским, политическим, но я предпочитаю именовать культурным. И в Бразилии он на самом-то деле есть, и в Китае еще какой, подчас даже срывается в шовинизм; есть и во всех странах БРИК, не исключая Индии. А мы почему-то боимся признаться, что он есть в России. Совершенно не замечая роста национально ориентированных организаций.
Путин пришел к власти под лозунгом национализма на самом деле. Он отнял этот лозунг у националистов. Сейчас отдал обратно, действует и мыслит в рамках либеральной традиции. Между тем люди, поставившие на культурный национализм, обладают сейчас мощным ресурсом, я многих из них знаю, они никак не зависят от государства — ни финансово, ни политически. У них своя система ценностей, близкая к православию, им глубоко наплевать на все попытки элиты куда-то и в какое-то русло направить процесс пробуждения национального чувства. Если они захотят, смогут сделать очень многое. Что, кстати сказать, показали события 1993 года; я с коллегами был тогда в Белом доме (впрочем, как и в 1991-м) и воочию мог убедиться, как национальное чувство резко усиливает и подчиняет себе ситуацию.
Я о чем сейчас говорю. То, что мы наконец-то стали обсуждать тему национализма и связали ее с темой модернизации — отлично. Мы, конечно, можем придумать очередные искусственные проекты, типа десталинизации (дегорбачевизации, деельцинизации.). Но лучше заняться делом. И постараться вовлечь в дискуссию о модернизации и национализме участников многочисленных либеральных школ, которые разрабатывают Стратегию-2020.
Павел Лунгин
— Я не ученый человек. Я режиссер. Поэтому все, что было умного тут сказано, я не столько осмысляю, сколько, как некое лабораторное животное, сам себе прививаю, сам реагирую, сам изучаю результат. Исходя из своей интуиции, из ощущения мира, из всех ужасов и радостей, которые живут во мне, я могу сказать, что, во-первых, разделяю мнение тех людей, которые говорят, что мы сейчас находимся в какой-то критической точке. Есть ощущение, что какой-то важный этап в нашей жизни близок к самоисчерпанию. Всеми ощущается тотальный дефицит смыслов и целей. Когда я смотрю на людей на улице, наблюдаю за ними, то меня не покидает чувство, что их почти ничего уже не объединяет. Вот эта ужасная атомизация, когда каждый сам по себе, грозит нам неисчислимыми бедами. Наши сограждане пока еще соединены общим языком, но уже почти не связаны общей культурой и совсем не склеены одними и теми же ценностями. Они, пожалуй что, крепче всего соединены интересом к деньгам. Это опаснейший момент в развитии страны.
Чем усугубляется это социально-историческое одиночество? Чувством, что правда исчезла, что ее больше нет. Мы живем, как в детской сказке. То ли в сказке об Алисе в Зазеркалье. То ли в сказке «Королевство кривых зеркал». Какой выход есть у большинства населения в такой морально дискомфортной ситуации, в атмосфере тотальной лжи? На что вообще опереться сейчас человеку? Остается, кажется, один лишь национализм. Он, с одной стороны, дает людям хоть какую-то опору, а с другой, окажется катастрофической опасностью. Говорю об этом не как еврей, а как человек русской культуры, и прошу меня услышать.
У нас есть привычка все высокое опускать резко вниз; проще всего ее проиллюстрировать примером телевидения, которое пытается поговорить о человеческом и о высоком, но год за годом понижает уровень, ввергает себя в упрощение. За этим стоит желание манипулировать, создать такое большинство, которым было бы удобно управлять. И национализм вполне может стать такой пониженной опорой для создания легко управляемого большинства.
Что в результате мы получим? Две России, окончательно и безнадежно разделенные. Они уже сегодня существуют — огромная Россия 130-ти миллионов, которая живет ужасно, я даже не знаю, как описать ее существование, тут нужен гениальный художник и писатель. И есть Россия, которой принадлежим все мы — Россия пяти-десяти миллионов, Россия читающая, спорящая, ездящая за границу, использующая интернет и т.д. По моему ощущению, эти две России все дальше и дальше расходятся. Как я понимаю, идея модернизации в том и заключается, что две России должны когда-нибудь соединиться, стать единым целым. Но модернизации в высоком смысле я сейчас не наблюдаю, только набор технических решений при полном равнодушии к культуре, которая и есть воздух, объединяющий всех людей и превращающий их в народ.
Равнодушие к культуре у нас практически всеобщее, но посыл всегда идет от элит. И то, что они задают нам определенное пренебрежительное отношение к культуре, высокомерное, несерьезное, это, видимо, влияет на всех нас. Я хочу призвать к возвращению к некоторым культурным основам, потому что без них страна распадается на две половины, а потом и на отдельных индивидуумов.
ОСОБАЯ ПАПКА
Валерий Тишков:
«О триединстве современной культуры»
В статье дан анализ соотношения и взаимодействий в современной культуре трех потоков, или культурных пластов — мировой высокой и массовой культуры, национальных культур (для России это общероссийская культура) и партикулярных этнических культур. Показаны ресурсы, которые позволяют разным культурам сохранять достойное место в культурном арсенале. Особое внимание уделено российской культуре, сложность которой представляет собой историческое и постоянно подтверждаемое каждым поколением единство (по словам М. Бахтина, «негомогенное целое») — единство в многообразии.
В современной культуре есть три потока, которые пребывают в постоянном взаимодействии. Эти потоки трудно разделить по приоритетам и далеко не всегда можно провести между ними четкие границы. И все же: есть мировая высокая и массовая культуры, есть национальные культуры (в нашем случае это общероссийская культура) и есть партикулярные этнические культуры, ценности и традиции. Это, скорее всего, не столько потоки, сколько культурные пласты, которые сосуществуют в современной культуре и присутствуют в культурном багаже более или менее образованного человека. Даже самый простой житель российской глубинки сегодня повседневно пользуется достижениями глобальной материальной культуры (интерьер из магазина ИКЕА, автомобиль, телевизор и телефон мировых марок и т.д.), смотрит кинопродукцию мирового кинематографа, читает переведенные романы, носит стандартную одежду (обычно китайского производства) и старается следовать мировой моде. На международных собраниях или в туристической толпе сегодня по всем этим признакам трудно разделить людей на культурно-страновые, если только их не выдает фенотип и язык общения, но и здесь легко ошибиться. Сфера материальной культуры сегодня стала стандартно схожей. Различия сохраняются все больше только в женской праздничной одежде, в деталях домашнего убранства, а также в пищевой культуре. Различия в материальной культуре сохраняются среди небольших групп аборигенных народов, где традиционная система хозяйствования (оленеводство, охота, рыболовство и морской промысел) составляет не только источник жизнеобеспечения, но и механизм воспроизводства культурной идентичности той или иной общности людей.
В современную эпоху культурные различия гораздо в большей степени перекочевали в сферу духовной культуры, в область самосознания, мировидения, ценностей и норм. И здесь названные нами выше домены культуры пережили собственную историческую динамику.
Итак, если со времени возникновения современных государств мировое культурное производство осуществлялось как бы на трех условных уровнях, тогда каждый из них имел в разные эпохи приоритетный статус или же стремился к нему, пребывая с другими доменами в диалоге и во взаимодействии. Когда-то культура местных сообществ и этническая (народная) культура носили самодовлеющий характер, и только культура знати и торговцев была вовлечена в обмен и заимствования (от шелка и бумажного письма до дворцовых и храмовых построек и их убранства). Затем национальные государства стали утверждать единые культурные нормы в форме литературного языка, канонов изобразительных искусств, предписаний в одежде, развлечениях и календарных праздниках. Партикулярные различия должны были уступать свое место национальным культурам, а также внешним заимствованиям. Эпоха от Петра I до Екатерины II, да и последующие времена в истории российского государства были отмечены именно этой тенденцией в эволюции российской культуры, по крайней мере ее верхнего слоя.
Но были периоды в истории государств и регионов, когда партикулярные (племенные и этнические) культуры получали особое спонсирование со стороны государства. Это могли быть как культуры меньшинств, так и культуры этнического большинства населения региона или вновь состоявшейся страны. Эти моменты в истории культуры известны как «национальные ренессансы», ибо избранные в качестве нормативных культуры становились одной из основ нациестроительства. Так было с латиноамериканскими культурами эпохи независимости, с рядом европейских и азиатских культур XIX века, эпохи Первой мировой войны и распада империй.
В ХХ веке зачастую в преимущественном положении могли оказываться и культуры меньшинств, которые получали от государства не просто поддержку, но даже государственно-территориальную основу, чтобы поднять уровень развития «ранее угнетенных наций и народностей». Так обстояло дело в СССР в ХХ веке. Что-то похожее было в странах Европы и Северной Америки в постколониальную эпоху, особенно в 1960-1980-е годы в рамках политики многокультурности.
Но уже с 1970-х гг. начинается эпоха глобализации, захватившая не только экономику, науку, военные машины, но и культуру в ее самых разных проявлениях. Можно сказать, что возникает тот самый пласт мировой культуры, который не есть просто сумма национальных культур, но представляет собой конкурирующую с последними самостоятельную культурную систему со своими глобальными менеджерами и даже финансовыми основами. Каковы место и роль этих трех потоков в современной культуре?
Нет сомнений, что высокая культура складывается прежде всего из лучших достижений национальных культур. Эти достижения стали частью мирового культурного достояния, и без овладения ими трудно представить себе образованного человека. Это прежде всего музыка и исполнительское искусство, литература, изобразительное искусство, театр — сферы, в которых, кстати, самым достойным образом представлены имена и достижения россиян. Без Достоевского и Толстого, Чайковского и Шостаковича, Шагала и Кандинского, Гергиева и Нетребко нет мирового культурного и образовательного репертуара. Все это в мировой культуре называется русской культурой (русскими писателями, художниками, композиторами, исполнителями и т.д.). Творцы этой культуры как в прошлом, так и в настоящем имели и имеют разные этнические корни, и вообще могли быть просто выходцами из Российской империи или эмигрантами из СССР, как, например, Марк Шагал, Владимир Набоков, Михаил Бырышни-ков, Мстислав Ростропович. Но мировая культура в ряде случаев создается и культивируется вненациональными центрами, институтами, фондами и программами (международные фестивали, конкурсы и выставки, мировые книгоиздательства и компании по производству культурной продукции).
Мировая культура играет огромную связующую роль в мировом сообществе и во многом задает стандарты, формирует ценностные установки, вкусы и привязанности современного человека, по крайней мере в большинстве стран мира. Мировая культура вместе с экономикой и информационно-коммуникационными системами придает проживающим на Земле людям необходимое свойство принадлежности к единому человеческому роду. Но в глобальном культурном потоке, особенно в его масс-культурном измерении, содержатся и негативные воздействия. Во-первых, массовая культура склонна к упрощенно-коммерческим формам презентации и формирует далеко не самые гуманистические установки и ценности. Мировая масс-культура оказывает нивелирующее воздействие на культурное разнообразие стран и регионов и зачастую разрушает национальную культуру и этническую традицию. Через мировую масс-культуру могут навязываться ценности и идеологические установки тех или иных крупных национальных культур, которые берут на себя роль мировых культурных производителей в той или иной сфере (например, кинопродукция американского Голливуда).
Самым значимым в культурном арсенале человека является пласт национальной культуры, которая представляет собой весь тот набор культурных форм, ценностей, мировидения, художественных вкуса и ориентаций, которые создаются в рамках суверенных государственных образований, называемых национальными государствами. Этот пласт наиболее значим уже хотя бы потому, что он обладает более глубокой исторической преемственностью, он составляет ключевой компонент национального самосознания (наряду с историей, языком, символикой), и через него каждый гражданин обретает чувство солидарности, читая одну и ту же литературу, исполняя общие песни, посещая музеи и театры своей страны.
Национальная культура получает государственную поддержку, и во многих странах существуют ведомства и бюджетные статьи, через которые проводится политика государственной поддержки культуры. Национальная культура — а именно в нашей стране это российская культура — создается прежде всего представителями профессиональных деятелей культуры, т.е. тех, кто творит высокую культуру через те же самые фундаментальные формы, как музыка, литература, театр, кино, изобразительное искусство. На протяжении всей истории нашего государства среди творцов российской/советской/снова российской культуры были и есть представители разной этнической принадлежности или люди смешанного этнического происхождения. Некоторые из них вносят в свое творчество отличительные краски и формы свойственной им этнокультуры, местной партикулярной традиции. Своего рода референтной культурной нормой или культурной сердцевиной российской национальной культуры является культура и язык доминирующего народа — русских. Поэтому во многих случаях, особенно когда речь идет о словесности, российскую культуру называют русской культурой. Тем более что до 1917 года в Российской империи понятия «русский» и «российский» были почти синонимами. Да и сегодня дистанция между русской и российской культурами гораздо меньше, чем между российской и этническими культурами других российских народов.
Для внешнего мира этой разницы вообще не существует, ибо в иностранных языках есть только одно слово — Russia(англ.) или Russie(франц.). Это внешнее упрощенное видение культуры России («В России живут русские») является распространенным явлением и в отношении других национальных культур. Равным образом для россиянина почти нет отличия между каталонской, баскской и собственно испанской (кастильской) культурой. Для нас Пикассо — это испанский художник, хотя он родился в столице Каталонии Барселоне и не был собственно испанцем (кастильцем). Все это — испанская культура или культура Испании. Так же мы не различаем в индийской культуре ее множественные культурные пласты, или не выделяем в китайской культуре собственно ханьский доминирующий компонент и культуры 55 других народов. Тем более для внешнего обозревателя ничего не значит тот факт, что даже сами ханьцы с трудом понимают друг друга, если только под устной речью не помещается строка из стандартного иероглифического письма. Таким образом, внешний мир всегда видит другие национальные культуры как гомогенные и не различает внутренние сложности. Поэтому называние россиян русскими не может быть точкой отсчета, тем более применительно к современной России.
Отметим также, что российская культура и ее основа — русская культура — не есть собственность исключительно одних только этнических русских, ибо ее производят и ею пользуются (включая русский язык) все граждане страны. Более того, во многом благодаря взаимообогащающему этническому разнообразию наша национальная культура смогла достичь высочайших вершин и обогатить мировое культурное наследие. Однако в национальной культуре присутствует и компонент мировой высокой и массовой культуры, который является неотделимой частью культурного капитала страны и ее населения. Пример тому — экспозиция Эрмитажа, российский сценический репертуар и библиотечные полки, не говоря уже о популярном песнопении и о предметах материальной культуры (пища, одежда, интерьер и т.п.).
У национальной культуры есть также уязвимые места. Она более склонна уступать официальной идеологии и воздействию власти, может грешить изоляционизмом или, наоборот, культуртрегерскими замашками экспансионистского толка. Некоторые национальные культуры не могут обойтись без образа врага, без гипертрофированного возвеличивания побед и героев своего народа или, наоборот, без сакрализации пережитых ими драм и трагедий.
Третий культурный поток можно условно назвать партикулярной культурной традицией, или этнокультурой. У него не менее, а даже более древние, автохтонные корни, запечатленные в народных традициях, языке, фольклоре и мифологии, ритуальной и обрядовой культуре, а также в материальной культуре (особенно пища и жилище). Этническая культура составляет основу групповой самобытности и отличительности того или иного народа, и уже поэтому сохранение этнической мозаики мира и каждой страны является глобальным приоритетом мировой культурной политики. Существуют международные декларации о сохранении культурного разнообразия, хартии по защите региональных языков и языков национальных меньшинств, глобальные спонсорские кампании по сохранению исчезающих языков и малых культур.
Этнокультура в названной триаде, пожалуй, наиболее уязвима в современном мире: у нее нет столь сильной коммерческой составляющей, как в мировой культуре, у нее нет такой государственной поддержки, как у национальных культур. Поэтому этнические культуры или народные традиции постоянно кажутся вымирающими, исчезающими и сугубо экзотическими. Однако ничего не исчезает в культуре, и сегодняшние новации завтра становятся традицией, так же как любая традиция когда-то была инновацией. Также не исчезает в мире и культурное разнообразие человечества, включая существующие сегодня четыре-пять тысяч этнических культур и языков.
У этнокультуры есть другие ресурсы, которые позволяют ей сохранять достойное место в культурном арсенале. Во-первых, для подавляющего большинства людей, особенно для россиян и для жителей других постсоветских государств, этническая принадлежность играет очень важную роль, ибо в советское время именно эта форма коллективной идентичности называлась национальным самосознанием, а культура той или иной этнической общности называлась национальной культурой («по форме»!). Во-вторых, большие и малые этнокультуры питают общенациональную культуру и делают ее отличительной от других национальных культур. Каждая страна в случае мировых презентаций типа церемоний открытия Олимпийских игр старается представить как свою визитную карточку именно этническую мозаику культур, помимо национальных мировых звезд. Наконец, сегодня этнокомпонент стал важной составляющей массовой культуры как некое противоядие ее нивелирующему воздействию. Выиграть престижные мировые конкурсы типа «Евровидения» стало возможным благодаря этнической специфике. Этнотрадиция обогатила мировую музыкальную классику и мировой кинематограф, не говоря уже о литературе. Сегодня этнические культуры и традиции поддерживают не только государства, но и частные спонсоры, особенно из числа «соплеменников», а также общественные энтузиасты и самодеятельные коллективы.
У этнокультуры есть также уязвимые стороны — это возможное использование в пользу националистических мобилизаций и даже конфликтов в виде интеллектуальных, а иногда и реальных войн за культурное наследие и культурных героев. Достаточно назвать горячие споры среди кавказских народов вокруг историко-археологического аланского наследия или же вокруг нартского эпоса.
Среди этнических культур в рамках одного государства может существовать определенная иерархия при внешнем юридическом равноправии всех культур и их носителей. Как правило, культура большого народа ассимилирует в свою пользу малые культуры. В России именно русская культура выступает в такой роли, но не только она одна (татары ассимилируют мордву и удмуртов, якуты — эвенков и т.д.). Но чаще всего это ассимиляция в пользу более конкурентного языка, и она не влечет за собой обязательную смену самосознания. К тому же культурно-языковая ассимиляция носит характер добровольного выбора гражданина или же его родителей, если речь идет о детях.
В любом случае современная российская культура имеет сложный характер, но эта сложность представляет собой историческое и постоянно подтверждаемое каждым поколением единство (по словам М. Бахтина, «негомогенное целое»). Это есть единство в многообразии.
ОСОБАЯ ПАПКА
Виталий Куренной:
«В основе этнических конфликтов – столкновение городской и негородской культур»
Национализм конструктивен с точки зрения социальных отношений, культуры, политической системы. Например, идея современной демократии предполагает национализм, национальный суверенитет как право политического самоопределения всей нации, а не какой-то ее части. В то же время существуют такие интерпретации национализма, при которых он ведет к драматическим последствиям.
— Согласны ли вы с тем, что национализм становится в современном обществе социальной потребностью человека?
— Национализм — новое явление. Оно возникло вместе с основными социальными, культурными, экономическими институтами современности. Национализм — это явление того же порядка, как и современное государство, промышленная экономика, массовая армия и всеобщее образование, современные институты внешней и внутренней политики. Национализм — легитимный и неизбежный элемент современного мира.
— Насколько обоснованно, говоря о национализме, ставить знак тождества с патриотизмом? Патриот обязательно должен быть националистом?
— Я бы не ставил здесь знак равенства, имея в виду, что патриотизм — это любовь к существующему, а национализм часто имеет характер проекта. Можно быть не националистическим патриотом и не патриотическим националистом. Возможно, что самые публичные патриоты сегодня — это американцы. Для граждан Америки вполне естественно вывесить на своем доме флаг своей страны.
— Существуют ли какие-то особые признаки национализма?
— В самом общем виде — использование националистического языка, националистического дискурса. Но вот если мы говорим о конкретном содержании национализма, возникают сложности. В конечном счете мы упираемся в следующую проблему: можем ли мы каким-то образом определить, что такое нация? Потому что национализм — это нечто производное от идеи нации. Существует огромное количество попыток дать определение нации, начиная с этнических и заканчивая более сложными, гражданско-правовыми формулировками. Но определить нацию — это все равно что дать определение личности или дать определение, что такое человек. То есть задача нерешаема. На любую попытку дать определение нации всегда можно ответить словами Бисмарка, который однажды сказал: «Я выступаю против монополизации права выступать от имени народа и при этом исключать меня из народа». Поэтому попытка дать исчерпывающее определение нации и национализму обречена на провал: нация — это конкретная полнота всей жизни нации. А претензия на исключительное право толкования нации и национального — всегда подтасовка.
— Можно ли говорить о существовании конструктивного национализма, или это явление всегда деструктивное?
— Безусловно, национализм в рассматриваемом мной здесь смысле — это явление в значительной степени конструктивное. Национализм конструктивен с точки зрения социальных отношений, культуры, политической системы. Например, идея современной демократии предполагает национализм, национальный суверенитет как право политического самоопределения всей нации, а не какой-то ее части. Нация — это и есть общий политический базис современной демократии, в отличие от демократий древности, где «демос» только часть общества, противопоставленная аристократии и другим подобным группам. В экономической и социальной сфере национализм также обладает позитивным измерением, необходимым для существования современных обществ. Ясна и патологическая сторона национализма, когда идея нации оборачивается не позитивной стороной формирования общности, равенства, доверия, социальной симпатии, а начинает, напротив, раскалывать общество, порождать разного рода ксенофобские конфликты по этническому, расовому, религиозному или другому признаку. Существуют такие интерпретации национализма, при которых он ведет к драматическим последствиям. Но национализм здесь не исключение — и у государства, и у религии, и у любого другого института есть патологические метаморфозы.
— Но ведь появление единой Европы с ее стиранием границ, по сути дела, проект-антипод национализма?
— Очевидно, что сейчас мы наблюдаем в Европе очень мощную волну националистических настроений. В каких-то странах она поднялась раньше, где-то только набирает обороты. Финляндия, казалось бы, в этом отношении была совершенно невинной страной. И вот, пожалуйста — третье место на выборах занимает партия, которая придерживается националистических, евроскеп-тических взглядов. Национализм, повторюсь, — это неотъемлемый элемент современности. Сказать, что Европа упразднила национализм своим проектом единого европейского пространства, конечно, неверно. Напротив, внутри этого проекта мы видим где-то возрождение, а где-то и рождение национализма. На фоне возрастающих экономических и миграционных проблем все громче звучат голоса, призывающие к той или иной форме восстановления национальных границ. Я вовсе не склонен переоценивать значение подобных голосов, но очевидно, что даже радикальный европейский эксперимент вовсе не снял национализм с повестки дня, а в каких-то отношениях даже стимулирует и укрепляет националистические настроения.
— В своем выступлении на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике вы использовали такой термин, как «культурные аспекты национализма». Что такое национализм в культурном отношении?
— Давайте вспомним, когда слово «нация» приобретает современный смысл. В конце XVIII века, в ходе Французской революции. Эта новая идея нации упраздняла (конечно, поначалу только в форме идеала) социокультурные барьеры между аристократией, буржуазией, крестьянством и прочими сословиями, учреждая между людьми, принадлежащими к французской нации, некое фундаментальное равенство и общность. Конкретным же культурным выражением национальной общности становится национальная культура — более или менее широкий культурный багаж, который разделяют все представители одной нации. Проще всего заметить этот культурный аспект национализма в образовании: в современном обществе люди получают значительное общее образование, и этот общий элемент имеет тенденцию к возрастанию. В досовременных, донациональных обществах ничего подобного нет: воины, жрецы и ремесленники не имеют сколько-нибудь значимого общего культурного багажа. Этот общий культурный план получает свое объективное выражение в правовом, политическом равенстве, идее социальной справедливости и т.д. Но без единства национальной культуры эти формы лишены жизни, они являются сомнительными абстрактными идеями.
— Мы говорим о нации, которая включает в себя представителейразных национальностей, или все же о «титульной» нации?
— Здесь лучше всегда уточнять терминологию. У нас есть конституционное определение, которое я не считаю особенно удачным: «многонациональный народ Российской Федерации». Получается, что многие «нации» составляют у нас какой-то единый «народ». Более соответствующим нашему обыденному словоупотреблению, духу русского языка, а также всей теоретической понятийной традиции, которую я использовал выше, является иная конструкция: единая нация может состоять из многих народов. Именно нация как политическая, социальная и культурная общность. А вот общность этническая, этнокультурная — это народ. В таком случае политическая, например, российская нация может включать в себя большое число этносов и народов, в том числе государствообразующий русский народ. Это нормально. Ненормально, когда вас пытаются вписать в народ, принадлежащим к которому вы себя по этнокультурным основаниям не чувствуете.
— И все же многие европейские народы, голосуя за националистические партии, выражают тем самым недовольство засильем мигрантов и размыванием европейской культуры. Вот и правительства ряда крупных европейских государств заявили о своем отказе от политики мультикультурализма.
— Здесь целый клубок сложных проблем. В той же Франции по ряду причин, прежде всего социально-экономических, потомки мигрантов, которые, казалось бы, уже являются гражданами Франции, сегрегированы. Они формируют анклавы, из которых уже не могут вырваться. Что и является источником множества проблем, которые поверхностно воспринимаются как межэтнические и межкультурные — как этакий домашний «конфликт цивилизаций». Хотя очевидно, что проблема такого рода сегрегации в основном связана с провалами социально-экономической политики. К сожалению, политика мультикультурализма в некоторых случаях служит только укреплению подобных сегрегационных барьеров — мол, живите своей культурой, а мы будем жить своей. Полагаю, что критику мультикультурализма со стороны глав основных стран Европы следует понимать именно в этом ключе. А именно как критику сегрегационных эффектов мультикультурализма. И как вытекающее из того требование более активной политики национальной ассимиляции. А вот это уже требует совсем других мер, чем простая популистская критика мультикультурализма.
Но давайте посмотрим на этот вопрос и с другой стороны. Национальная культура — мы уже об этом говорили — основана на определенном общем культурном багаже. Но это не просто знания, навыки коммуникации, грамотность и прочее. Это еще и цивилизационные навыки.
Причем весьма определенные. Ведь что такое современная культура? — Это культура прежде всего городская, урбанистическая. Она предполагает очень сложный тип рациональности, условности, сложности. Если культурные механизмы формирования подобных цивилизационных навыков не работают, то возникает специфический конфликт городской и не городской культуры. Почему, например, московское метро строилось так помпезно, как дворец? Нужно было дисциплинировать огромную массу бывших крестьян. А мраморный пол и люстры дисциплинируют — лишний раз под ноги себе не плюнешь. Сегодняшний пример такого рода — аппарат по продаже билетов на вокзале где-нибудь в Германии. Без определенных и весьма непростых цивилизационных навыков вы просто ничего не сможете с ним поделать. Для деревенской площади, возможно, вполне в порядке вещей — занять эту площадь под влиянием импульса к непосредственному выражению молодецкой удали в форме лихой народной пляски. Городская площадь устроена по-другому, предназначена для другой — городской — жизни. Таким образом, сплошь и рядом сегодня мы под видом этнических конфликтов имеем дело с конфликтом городской и не городской культуры. Если же на этот отказ механизмов формирования городских цивилизационных навыков накладывается еще и стремительная утрата общего культурного багажа, то политическая нация рискует распасться на явно или латентно враждующие этносы.
— Почему в России национализм имеет более воинственную форму, чем, скажем, в Европе?
— В исторической перспективе я бы не согласился с такой формулировкой. У Европы долгая, сложная и далеко не бескровная история этнических конфликтов. Но сегодня в отношении национализма она является более зрелой.
Проблема в том, что у нас почти не было исторического шанса вообще сформулировать и тем более практически разрешить эту проблему. Россия дореволюционная, а затем СССР — это имперские пространства. Имперское пространство совсем по-другому устроено — не так, как национальное государство. И сегодняшние наши проблемы, мне кажется, в том числе проблема насилия на этнической почве, связаны с тем, что мы слишком полагаемся на эту инерцию имперского прошлого. Тема нации в России марги-нализована и даже в какой-то мере табуирована. В результате эта тематика захватывается очень специфическими группами публицистов и популистов. А отсутствие разработанного языка, на котором можно обсуждать эту тематику, конечно, никак не способствует разрешению назревающих здесь проблем.
В завершении я выскажу свою точку зрения на решение этой проблемы в нашей стране. В то время как в Европе и в мире в XIX-XX веке активно шло формирование национальных государств, мы продолжали быть имперским пространством. Россия — опоздавшее национальное государство. Но даже в Европе до сих пор идет далеко не безболезненное формирование подобия моноэтнических государственных образований из остатков прежних империй.
Неизбежен ли и для России такой путь формирования моноэтнической государственности?
Это возможно или через распад, или посредством жесткой и далеко не толерантной — как нам известно и из истории Европы, и из политики нынешних стран Балтии, — этнизации своего государства. Мне представляется, что Россия должна идти другим, цивилизованным путем: через формирование гражданско-правового национализма. Основанного на лояльности конституции и приверженности собственной общественной и государственной инфраструктуре. Такой национализм прагматичен, он апеллирует к разуму, а не к эмоции. И он не требует столь дорогих политических жертв с непонятным исходом, как национализм, основанный на этнической идее.
3. Школа как политический институт культурной модернизации
Основные вопросы раздела:
- После завершения цифровизации и окончательного дробления информационного мира школа станет единственным общественным институтом, охватывающим всю территорию страны и объединяющим всех граждан независимо от национальности, имущественного ценза, религиозной и социальной принадлежности. Значит ли это, что перед ней встают не только образовательные, но и политические задачи? Если да, то каковы они? Если нет, то какой институт отвечает за формирование общегражданского сознания, общей ценностной шкалы и системы культурных кодов? К какой социокультурной реальности готовит сегодняшнего выпускника современная российская школа?
- Общеизвестна формула Бисмарка: «Франко-германскую войну выиграл гимназический учитель». Сможет ли российский учитель сформировать постсоветскую нацию? При каких условиях?
- Может ли школа сформировать сознание активного участника модернизационных процессов, не порывающего со своей культурной матрицей?
- Может ли (и должна ли) школа воспитывать современного человека через погружение в традиционные гуманитарные дисциплины (литература, история)? Является ли всё четче проявляющаяся тенденция размывания гуманитарного слоя в процессе школьного преподавания осознанной политикой, или это следствие чего-то иного?
- Что несут в себе новые стандарты образования?
- Как следует оценивать введение новых предметов с национально-культурной и религиозно-просветительской направленностью — ОПК, «Россия в мире»? В какой мере они будут влиять на сознание нового поколения россиян?
- Есть ли у школы право актуализировать те или иные образы, лейтмотивы, сюжеты, выявляя и подчеркивая в русской культурной матрице то, что наиболее необходимо деятельному человеку XXI столетия? Имеет ли школа право выполнять подобный социальный заказ, или это противоречит ее суверенным задачам?
- Какие культурно-политические практики, использованные другими странами в сфере школьного образования, могут быть применены в России?
Евгений Ямбург
Не стратегия, а бухгалтерия
Начну с анекдота. Идет урок православной культуры в пятом классе, и совершенно искренняя учительница говорит: «Дети, те, кто будет учиться на «четыре» и «пять» — попадет в рай. А те, кто на «двойку» и «тройку», попадет в ад». Поднимается дрожащая рука Пети: «Мария Ивановна, а есть ли вероятность окончить школу живым?» После всех сегодняшних дискуссий вокруг школы у меня ощущение, что такая вероятность очень мала. Тем не менее я как педагог не имею права на плач и жалобы. Помимо констатации ужаса и ужаса, надо предлагать какие-то реальные вещи.
Я иногда вслух задаю неудобные вопросы: с кем собирались делать модернизацию? Есть 150 проблем. Затрону лишь одну из них. Есть совершенно табуированная тема, которая называется «генетическая усталость». Пару лет назад я выступал в Потсдаме на конференции. Не могу сказать, что доклад мой был принят с восторгом. Людям редко нравится слушать жесткие прогнозы. Но что делать, без правды о самих себе мы не имеем шанса на продвижение вперед. Грубо говоря, в тех популяциях, где нарушается естественный отбор, постепенно нарастает генетическая усталость. Медицина торжествует: сегодня в роддомах даже пятимесячных вытаскиваем в жизнь через колбу. Они продолжают ослабленный род в следующих поколениях… Эта проблема не только российская, она общемировая, мы это видим по детской популяции.
Любой практикующий педагог скажет, что с каждым годом приходит все более сложный и ослабленный контингент. Дети, находящиеся в пограничных состояниях, с дисфункциями мозга, с дислексией, с дисграфией, с синдромом дефицита внимания.
На бытовом уровне — это те дети, у которых шило в одном месте. Говорить такому ребенку «будь внимателен» — все равно что слепому «присмотрись». Вы можете на него орать, кричать, ставить его в угол, он не усваивает, но интеллект в норме. Во всем мире этой проблемой занимаются.
Первый способ — лечить таких детей постоянно препаратами.
Второй способ — учить их в маленьких классах по специальным методикам профессоров Н. Заводенко, Т. Ахутиной. Мы же хотим «любить по-русски» — не давать лекарств и учить в больших классах. Это очень толерантно, пока этот ребенок не ударил по голове вашего здорового ребенка. Вот тут вся толерантность заканчивается.
Почему я об этом заговорил? Потому что на самом деле популяция становится все хуже и хуже. Мы это видим: с каждым годом в школу приходит все более ослабленный контингент. Есть ли выход? Конечно, есть. Если мы начинаем диагностику в детском саду, очень рано, где-то от 3,5 лет мы это выявляем, до 6,5-9 лет все это можно поправить. Пока у ребенка не сформировались лобные доли мозга, которые отвечают за абстрактное мышление, мы все можем делать — от 3 до 9 лет, дальше будет поздно.
Но для этого надо вкладывать средства, извините, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Дело в том, что эти дети, как правило, не осваивают школьные программы, оказываются на улице. Мы говорили с главным врачом Федеральной службы исполнения наказаний — в тюрьмах 72 процента подростков с синдромом дефицита внимания. Со временем гиперактивность проходит, а дефицит внимания остается. И такой человек садится за руль автомобиля, а это как?
На мой взгляд, стратегия образования России должна исходить из системного междисциплинарного комплексного анализа. Пока никакой стратегии у нас нет. То, что называется стратегией, — это просто бухгалтерский подход. Это удешевление, сокращение нагрузки на бюджет. Но, между прочим, в среднем по России содержание одного ребенка в школе стоит 60 тыс. рублей и дешевле, а в тюрьме — 350 тыс. Тогда давайте считать хотя бы с этой позиции.
Сегодня в условиях так называемой оптимизации, а на самом деле — секвестирования образования, под нож пошла элита российской школы — дефектологи, психологи, потому что надо дешевле, вы же не сократите учителя математики! То есть нация становится все больнее, а мы выводим за штат именно специалистов по коррекции. Оптимальным считается класс в 35-40 человек, а этих детей надо учить по 12, там один стоит десяти, но это уже не идет по бухгалтерским расчетам. Мы с кем собираемся делать модернизацию?
Во многих московских школах России, в том числе в моем Центре образования, осуществляется и ранняя диагностика, и ранняя коррекция — это становится возможным, когда в одной структуре объединяются детский сад, начальная, основная и старшая школы. В новом же проекте закона — мы «незаконное бандформирование». Там Центров образования нет. Школа и школа. Детский сад и детский сад. Так дешевле, конечно, но ведь в итоге дороже и опаснее, вот о чем идет речь.
Европа вымирает, мы тоже, не будем строить иллюзий. Значит, единственная нормальная история — это смешиваться и принимать как спасение мультикультурность. Нам сегодня приятно злорадствовать по поводу не вполне удачного европейского опыта, а необходимо делать выводы и идти дальше с учетом их ошибок. Школа — это единственное место, где можно и нужно интегрировать детей разных национальностей в европейскую и российскую культуры.
Сегодня мы уже открываем в наших школах курсы русского языка для нерусскоговорящих детей. А как иначе? Мы должны преодолевать и ту незримую стену, которая стоит между исламом и христианством. Да разве только между ними?
Естественно и органично стремление людей идти в метафизику, искать свои религиозные корни — это нормально. Я за это. Но у нас идет полная путаница! Мы путаем духовность и клерикализм. Веру отцов и вражду отцов друг с другом. Мы начинаем искать не то, что людей объединяет, а то, что разделяет их.
Я прихожу в еврейскую школу, директора которой я знал вменяемым человеком. И вдруг в учительской читаю приказ, запрещающий в начальной школе изучение сказки «Три поросенка» в силу некошерности персонажей! Когда я ему сказал: ты сам себя загоняешь в культурное гетто, он ответил: ты не настоящий еврей. И с позором я оттуда ушел.
Потом судьба занесла меня в православную гимназию. Мало мне там тоже не показалось. Я попал на семинар православных физиков. Главная идея их семинара заключалась в том, чтобы каждый урок физики приводил к идее бытия божьего.
Когда я очень аккуратно сослался на текст «не поминай Господа Бога твоего всуе», тут мне сразу вспомнили, кто я по национальности. Пришлось уйти и оттуда. Ни с теми, ни с теми, понимаете? Когда я пять лет назад прочитал, что настоятель одного из монастырей «договорился с РАО ЕЭС, с Чубайсом о божеских ценах на энергоносители для монастыря», я вздрогнул: для больницы цены могут быть дьявольскими, для школы — безбожными. Это клиника.
Не так давно, три месяца назад, мне привезли девочку из Белгорода. Там везде введены обязательные уроки православной культуры. Я разговариваю с ней:
— Евгений Александрович, какое счастье, что мы православные. Вы не представляете, как я ненавижу католиков!
— Чем они тебе насолили?
— Как же вы не понимаете? Они же молятся примадонне!
Я говорю: деточка, примадонна — это Алла Борисовна Пугачева. Они молятся мадонне, по-православному, Матери Божьей, это одна и та же женщина. «Да-а?»
Кто-то уже отравил сознание этого ребенка ненавистью. Мы что, забыли, что Бог есть любовь? Или мы воспринимаем веру лишь как средство самоидентификации? В этом смысле мне гораздо ближе мой «компьютерный» мальчик из 11-го класса, который вывел гениальную формулу: «Бог один, провайдеры разные!»
Для меня и иудаизм, и ислам, и христианство — это разные команды альпинистов, которые поднимаются с разных сторон на одну и ту же высоту. А если мы этого не хотим понять, если мы не будем этого признавать, то рано или поздно прольется кровь. События на Манежной площади — тому иллюстрация. Школа должна оставаться светской в поликультурной и в поликонфессиональной стране. Но быть светской не значит быть агрессивно-атеистической. Это разные вещи.
Кроме этого, давайте все-таки у себя в голове наведем порядок. Я понимаю, что чувствуют бедные авторы учебников, которым очень хочется и не обидеть церковь, и сохранить начало науки! Я видел вариант одного из учебников биологии, там авторы нашли «компромисс». Формула была гениальная — человек произошел от обезьяны по образу и подобию Божьему.
В 1934 году в фашистской Германии произошло серьезное событие. Тогда Гитлер пытался подмять под себя церковь, его объявили новым Моисеем, стали чистить Евангелие, избавляясь от еврейства, но интеллигентные мужественные теологи Д. Бонхеф-фер, М. Нимеллер и другие четко заявили (кстати, Гитлер ничего с этим не смог сделать), что любое «и»: христианство и государство, христианство и нация — есть противоречие христианству. На память приходят слова Папы Пия XI о том, что «только поверхностные умы могут пасть жертвой ложного учения, говорить о национальном Боге, национальной религии».
Тут будем честными перед самим собой. И не пасовать, потому что у нас вновь образовались какие-то священные коровы, о которых нельзя говорить. А почему нельзя говорить? Я с огромным пиететом отношусь к глубокому серьезному православию. Кто имеет право его критиковать? Не мне, светскому человеку, я не говорю о своих внутренних убеждениях, это просто мое личное глубоко внутреннее дело. Но когда я читаю, скажем, митрополита Антония Сурожского, или протоиерея Александра Шмемана — это те истинно православные люди, которые не боятся говорить о том, что в историческом пути православия есть заблуждения, связанные с триумфализмом, с превозношением государства. Мы хотим опять в этот тупик завести себя самих. Давайте же домысливать какие-то вещи до конца. Я не алармист и убежден в том, что с любыми дефектами детей и взрослых можно работать, нам нужен очень терпеливый психотерапевтический диалог.
Мы видим пока только черно-белую картину мира, делим ее на своих и чужих. Нам свойственна демонизация чужих и идеализация своих, вера в то, что в последней битве добро победит зло.
Слава Богу, есть и другой взгляд. Надо понимать: в чем-то мы больны (тогда давайте лечиться), а в чем-то мы очень здоровы, и этим хвастаться не нужно. Но все мы травмированы.
Не далее как месяц назад я читал лекции чеченским учителям. Они плакали. Не потому, что я такой сильный оратор, а потому, что понимаю как педагог, что на их примере ничего объяснять нельзя. Надо брать чужие. Я размышлял на примере Польши: во время войны там были концлагеря, Освенцим, в газовых камерах сжигали людей. Холокост. И когда пришла Красная Советская армия, для польских евреев — они освободители. Они поверили в идеи интернационализма, пошли в спецслужбы, эти польские евреи. А для поляков Красная армия означала закабаление на ближайшие 20 лет. Вот так две боли встретились.
После войны там прошли еврейские погромы не по немецкому приказу, а по велению пылкого польского сердца. А теперь давайте разбираться (это я чеченцам рассказывал): для евреев травма — это Холокост. Для поляков — коммунистическая оккупация. Говорить, чья боль больнее — это беда. Но про любую боль надо рассказывать. И про ту, и про другую. Иначе получится, как у гениального Высоцкого: «Воспоминанья только потревожу, и сразу крик на память: «Караул! Чеченцы режут немцев из Поволжья, а место битвы — город Барнаул». И те, и те высланы и друг друга ненавидят. Нужна огромная, долгая психотерапевтическая работа. Ответственность интеллигенции, так называемой элиты, за слово. За слово надо отвечать! Любое слово, когда больны все. Для излечения потребуется 10, 20, 30 лет, быстро этого не может быть.
Я глубоко уверен, что великая русская культура никуда не денется. Россия была великой, пока она была открытой. Когда Россия училась у Византии, появился гениальный Рублев, который превзошел византийские образцы. Пока русская литература училась у западного романа, появились Достоевский и Толстой, которые выше западных образцов. Как только она замыкалась и надувала щеки, происходила Крымская катастрофа. У меня ощущение, что мы сегодня снова хотим надуть щеки. На мой взгляд, у нас есть великая национальная идея: на этой территории нужно организовать концерт культур, хоровод цивилизаций и конфессий. Вот великая идея, как мне, педагогу, кажется.
Возвращаюсь к ошибкам истории. Можете считать меня кем угодно — космополитом безродным, либерастом, — я всегда себя чувствую своим среди чужих, чужим среди своих. Среди либералов я чувствую себя консерватором, среди консерваторов — либералом. Никак не могу определиться, потому что и те и другие крайности меня убивают. Но был совершенно русский человек, славянофил Алексей Хомяков, который в 1840 году, обращаясь к молодежи (подчеркиваю, он не кричал: «Положительный образ России! Нас надо уважать!») написал:
Не говорите: «То былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет! этот грех — он вечно с нами,
Он в вас, он в жилах и крови,
Он сросся с вашими сердцами —
Сердцами, мертвыми к любви.
Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времен,
За ваши каинские брани
Еще с младенческих пелен;
За слезы страшной той годины,
Когда, враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель русской стороны;
За рабство вековому плену,
За робость пред мечом Литвы,
За Новград и его измену,
За двоедушие Москвы;
За стыд и скорбь святой царицы,
За узаконенный разврат,
За грех царя-святоубийцы,
За разорённый Новоград;
За клевету на Годунова,
За смерть и стыд его детей,
За Тушино, за Ляпунова,
За пьянство бешеных страстей,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость темного незнанья,
За плен народа; наконец,
За то, что, полные томленья,
В слепой терзания тоске,
Пошли просить вы исцеленья
Не у того, в его ж руке
И блеск побед, и счастье мира,
И огнь любви, и свет умов,
Но у бездушного кумира,
У мертвых и слепых богов,
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной;
За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За темные отцов деянья,
За темный грех своих времен,
Пред богом благости и сил
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб он простил, чтоб он простил!
Так призывал русский помещик Хомяков, славянофил, отнюдь не западник.
Александр Привалов
Почему учителя молчат?
Чувствую себя каким-то вредным оболтусом, но от высот разговора о глубинах философии, медицины и культуры возвращаюсь к пошлой теме образования. На самом деле, надо же все-таки про нее поговорить! Тема важная. Мне очень понравилось, что в первой части нашей дискуссии Дмитрий Львович Быков сказал, что из двух возможных в России великих проектов один — образование. Я не очень понимаю, что имеется в виду, я не понимаю, как можно вовлечь всю нацию в этот процесс, но я твердо понимаю, что это очень правильно сказано, потому что либо мы занимаемся образованием, либо через очень недолгое время на этой территории какие-то другие люди будут решать какие-то другие проблемы.
Глупо доказывать, что образование лежит в основе всего, и положение тут невеселое. Что соединяет нашу гигантскую страну от Калининграда до Дарькина? Соединяют, в сущности, две вещи: рубль да школа. Рубль себя чувствует сегодня так, а завтра этак. Так что если мы школу развалим — страны не будет. А положение в школе очень невеселое. Буквально вчера разговор зашел с человеком совершенно необычной профессии — со шрифтовиком. Шрифтовик, который преподает в соответствующем вузе соответствующую дисциплину, сказал, что он не сразу понял, что ему мешает в его работе, а когда онял, страшно удивился: оказалось, что первокурсник, с которым он пытается заниматься шрифтами, не знает алфавита. Читать и писать умеет, а какая буква за какой следует, не знает. Академики-физики рассказывают о том, что первокурсники физфаков ведущих университетов страны не отличают веса от массы. На мехмате, которому навязывают болон-скую систему, необходимую ему как собаке пятая нога, говорят: черт с ней, пусть будет болонская система, мы лишний год сделаем пропедевтическим и людям, которые поступают на мехмат, объясним, что такое дважды два.
Ситуация на самом деле очень невеселая. То, что происходит с так называемым реформированием образования, достойно слов, которые в таких аудиториях употреблять не принято. Евгений Александрович Ямбург, несомненно, лучше меня знает, в 1984-1986 годах истекшего столетия вышло постановление ЦК и Совмина «О реформировании школ» (Черненко К.У.). С тех самых пор, больше четверти века, мы ее все, прости Господи, реформируем. Никто не выживет после такого. А она в какой-то степени жива, за это надо благодарить Бога. А что происходит сегодня? До сих пор единственным актом реформирования образования, который народ заметил, был ЕГЭ. В нем есть какие-то положительные стороны, но в конечном счете он губителен. Об этом все говорили до его введения, в этом все убедились, когда его ввели. Но ЕГЭ — это же только эпизод. Что привлекло внимание общественности в последний раз? Это те самые стандарты для старшей школы, которые подготовил коллектив под руководством Александра Михайловича Кондакова. Заметьте себе: общество этот проект стандартов заметило чисто случайно. Как многие помнят, 11 декабря прошлого года произошла Манежная площадь, и господам-авторам стандарта промолчать бы, а они выскочили и сказали: «Вот! Вы видите? А мы приготовили стандарт, где всего этого не будет, мы их всех научим Родину любить и все будет замечательно!» Люди заметили этот стандарт и заорали в голос, отреагировали обе академии — Академия наук и Академия образования. Математическое общество Москвы и Питера приняли уничтожающие резолюции, и так далее. Вроде бы чего-то затормозили. В своем первоначальном, самом кошмарном виде стандарт, конечно, не пройдет. Но пройдет нечто более мягкое, может быть, под титулом Российской Академии образования недавно опубликованный вариант; впрочем, даже не в этом дело. Дело в том, что когда к чему-то приковывается внимание, выясняется, что это плохо. А когда не приковывается, что чаще всего и происходит, то плохое проскакивает на красный свет.
Что это за стандарт? Я, к сожалению, его очень внимательно изучил. Когда я испугался, услышав про него, то проговорил с десятками специалистов. С некоторыми под телекамерами, с некоторыми без них. Евгений Александрович у меня был под телекамерами. И что забавно? В общем, наиболее серьезные профессионалы не боялись. Одна чудесная женщина, директор православной гимназии из Подмосковья, сказала, когда я попытался ее разговорить под телекамерами о стандарте: «О чем вы говорите! Пока есть мы, учителя, мы научим, что бы они там ни писали». Но тут какая штука получается. Я совершенно не боюсь за школу господина Ямбур-га, который рассказывал мне, что противник этого стандарта, за школу господина Рачевского, который рассказывал, что он сторонник этого стандарта. За сильные школы я не боюсь. Я очень боюсь за все остальное. Не так давно, 1 апреля, Москва вздрогнула: оказывается, были очереди из родителей, желающих записать своих детишек в школу, холодной зимой дежурили всю ночь, писали номера на ладонях, — что это значит? Нам сразу стали объяснять, что это значит, что не все школы овладели высоким искусством устраивать электронные очереди. Да, конечно. Электронная очередь — это большое счастье, она решает все проблемы. На самом деле, это значит другое — в Москве очень мало хороших школ.
Понимаю, что на сей счет не может быть статистики, это бред, но я поговорил со многими специалистами; хороших школ в Москве, по оценкам пессимистов, лишь каждая десятая, оптимистов — каждая седьмая. 10-14 процентов. Все! Заметьте, что люди, которые не учатся в этих школах, не обучаемы дальше. Люди, которых в школьные годы правильно не учили, потом закрыты для какого бы то ни было дальнейшего образования. Обучение в сколь-нибудь разумной школе ничего не гарантирует. Но его отсутствие гарантирует тупик. Это же факт, это же очевидно. А мы реформируем, мы четверть века реформируем школу. Этим занимаются, как обычно, профессиональные реформаторы.
Профессиональный реформатор — это такая же вредная профессия, как профессиональный революционер. Когда человек, глядя на наше Отечество, говорит (прямая цитата, я бы такого не придумал): «Накоплен гигантский потенциал недореформированно-сти» — это же жуть какая-то! Что получается из этого «гигантского потенциала»? (Я возвращаюсь к этой бумажке со стандартами, потому что ее многие прочли. Другие бумажки, которые лепятся в ходе реформы образования, не лучше, но этот стандарт прочли.) Стандарт, который вызвал массовый гнев населения, готовили почти семь лет. В нем разделы о биологии, химии и физике сделаны методом копи-пейст с заменой корня «физ» на корни «хим» и «био» — все. Это готовили семь лет, это готовили люди, которые носят все мыслимые реформаторские титулы. Реплика: На это ушло 121 млн рублей.
Александр Привалов : Да Господь с ним! В чем и беда от этих самых вечных реформ — их затевают люди, которые ради своих карьерных ли, амбициозных ли — неважно каких конкретно, главное, что в национальном масштабе ничтожных — соображений воротят гигантские беды. Потому что происходящее, уже происшедшее в каком-то смысле, расслоение на школу и псевдошколу, губительно в национальном масштабе. Не может быть такого, чтобы только в каждой седьмой столичной школе можно было учиться. Тем не менее — есть.
Нам говорят: наконец мы сделаем как у людей, Мы сделаем вариативность, профильность, — отлично, делайте! Но тут же выясняется: они, оказывается, все уже сделали. У нас каждая третья школа профильная. Да перестаньте врать про профильные школы! Тут еще конь не валялся! Школа может называться профильной сколько угодно, она может написать на табличке у себя любые слова, законом это не воспрещено. Но не существует ни программ для профильных школ по так называемым профильным дисциплинам, ни методик преподавания этих программ, ни финансирования для достижения более высокого уровня оснащенности, скажем, предпрофили «физика» или «химия». Этого нет. Это еще даже не начинали. А вариативность уже есть, и профильными завтра назовутся все. А почему так? Потому что в Финляндии так. В Финляндии обучение вариативное, есть профильные школы. Стоп, ребята! В Финляндии в течение 30 лет образование было самой большой расходной статьей бюджета. В течение 30 лет образование было первым приоритетом государства. При этом там есть вариативность. Но вариативность не такая, как у вас, — из прежнего букета дисциплин возьми себе чего хочешь, а про остальное забудь, — а вариативность такая: вот тебе букет дисциплин, и чего хочешь, изучай глубже.
Господа, нельзя же так. В конце концов это бессовестно. И что самое забавное, господа чиновники и реформаторы вкупе перестают понимать, что у школы есть какое-то другое назначение, чем быть пластилином для их реформаторских усилий и источником отчетов. Для них же. Ведь это уже общепринятая шутка, и она уже совсем не шутка, а реальность, что школы — это то место, где дети мешают учителям писать отчеты в департамент образования. Дела никакого не происходит, а помехи происходят просто фатальные, с каждым днем они нарастают.
Наверное, все-таки так нельзя. Если говорить не об образовании вообще, — это совсем необъятная тема, а именно о школьном образовании, то совсем бы по-хорошему про это вякать не должны люди, которые там не работают. По-хорошему, мне бы на эту тему не выступать. Дмитрий Львович Быков, поскольку он помимо всех прочих занятий еще и в школе преподает, пусть говорит. Мне бы говорить не следовало. Так почему я ввязался в это дело и с декабря ничем другим не занимаюсь? Да потому что молчат! Учительское сообщество молчит. Нельзя сказать, что молчит родительское сообщество, но родители, которых это не касается напрямую, молчат. Да, был взрыв негодования, когда обнаружились эти идиотские стандарты, но он уже погас, уже опять можно делать все что угодно, никто не возразит. Но так же нельзя! Насколько я помню, под камерами пытал господина Ямбурга: что вы молчите?
Евгений Ямбург : А кто молчит? Я не молчу.
Александр Привалов : Вы лично не молчите. Что вы как учительское сообщество делаете? Если учителя, которых много и в необходимости которых вслух никто не позволил себе усомниться, если учителя что-то скажут громко, хором — их услышат. Они громко хором не говорят.
Евгений Ямбург : Можно реплику, чтобы у вас было прояснение в мозгах? Начнем с директоров школ, где по современному трудовому законодательству любого директора можно уволить сегодня по статье, без объяснения причин. Это первое. Дальше. Господин Фурсенко заявил, что у нас слишком много учителей на популяцию, нужно увольнять.
Реплика : 100 тысяч.
Евгений Ямбург : Сто тысяч лишних у нас учителей. В маленьком городе две школы. Да куда вы денетесь с подводной лодки? Все эти бесчестные истории с фальсификацией ЕГЭ пресса до конца не дожала. Я специально поехал и выяснял, встречался с людьми. Их поставили перед очень страшной альтернативой: либо ваши дети напишут, либо мы закроем эту школу как неоптимальную, вы окажетесь без куска хлеба. Вот и все. Поэтому и молчат. Если вам все не нравится, по поводу гражданского общества, почему вы начинаете с парикмахерской? Учителя — одна из самых бесправных категорий. А почему молчит интеллигенция?
Александр Привалов: А почему молчит интеллигенция? Хороший вопрос!
Дмитрий Быков: Потому что говорить бесполезно, лучше делать что-нибудь молча. Что мы, кстати, и делаем.
Александр Привалов: Хорошие учителя учат, а хорошие директора нанимают хороших учителей, чтобы они учили — это счастье. Беда в том, что этого всего катастрофически мало. В национальном масштабе это уменьшающаяся доля. Я думаю, что все тут согласятся. При этом единственное, что занимает начальство, единственное, что прослеживается всю четверть века так называемой реформы образования -стремление к экономии. Было два-три всплеска, когда действительно повышались бюджетные ассигнования на образование. Последний из этих всплесков закончился в истекшем году. Всплески такие были, но они не меняют общие, извините за грубое слово, тенденции. А общая тенденция, у Грибоедова было сказано: «числом поболее, ценой подешевле», а сейчас — числом поменее, ценою подешевле. От классики мы резко пошли вперед. Я понимаю пафос господина Быкова, который сказал «потому и молчим, что дело делаем». Правильно, да, делаете. Но, наверное, надо что-то еще предпринять. Извините за пафос.
Михаил Шнейдер
Необходимость долгого взгляда
Чтобы сразу прослыть врагом народа, я могу сказать, что катастрофы в новом образовательном стандарте не вижу. Не потому, что мне все 70 страниц так понравились, а потому, что многое из него мы могли бы использовать для того, чтобы сохранить вариативность. Из этой сложной и уклончивой конструкции, которую я осознанно выбрал, следует, что ни одна реформа образования на самом деле у нас не состоится. Во всяком случае, нормальная реформа, потому что и реформаторы, и реформируемые не очень понимают, а что вообще со всем этим делать.
Что сегодня из себя представляет система образования? Примерно то же, что и все общество. Мы, с одной стороны, упустили возможности, которые были для перемен в образовании, начиная с поздней перестройки и заканчивая 90-ми — был такой период надежд. Педагоги-новаторы, многочисленные педагогические инициативы, съезды учителей, которые совпали по времени со съездами кинематографистов, писателей, журналистов, общий подъем, когда интеллигенция полагала, что перемены в обществе если она и не возглавит, то будет в первых рядах… Но переход к рыночной экономике по-постсоветски оказался не таким оптимистическим. Кстати, это одна из причин того, что сегодня многие молчат.
Так что, с одной стороны, это отражение того кризиса, о котором сегодня уже говорилось. С другой, подтверждение того, что мы находимся в плену некоторых мифов. Их много. Что касается образования, то миф номер один — мы потеряли лучшее в мире образование. Если кто-то берется доказать, что оно было лучше нынешнего, особенно в части гуманитарного образования — я бы с удовольствием эти аргументы услышал, хотя это не отрицает того факта, что, безусловно, были школы, в которых детям рассказывали не только про историю КПСС. Но это не отражало общего положения. Дальше. Решала ли советская школа задачи, которые нормальная школа должна решать? Была ли она, например, социальным амортизатором, открывала ли она социальные лифты и так далее. Мне представляется, что школа эти задачи решать не могла, потому что это решали другие инстанции.
Откуда мы вообще знаем, какая школа лучше — та или эта, если достоверной образовательной статистики в стране как не было, так и нет? Попробуйте найти что-нибудь по школам. Евгений Александрович знает, как его дети сдали ЕГЭ, я знаю, как мои дети сдали ЕГЭ, при всей относительности вообще этого измерителя, такое понятие, как «академическая честность», принятое во всем цивилизованном мире, на ЕГЭ у нас не распространяется.
Александр Привалов : А я твердо знаю, что на мехмате в те времена, когда я туда поступал, несколько десятилетий назад, никому не приходило в голову делать пропедевтику.
Михаил Шнейдер : Безусловно, это один из показателей, тем не менее, я бы с большим удовольствием увидел образовательную статистику советского времени; боюсь, что она не сохранилась или вообще не велась. Хотя бумажки заполняли всегда, только сейчас это легче делать, потому что есть база данных. Пока образовательной статистики нет, пока не существует четких критериев оценки качества образования, мы можем долго спорить на тему, какая школа лучше. Я считаю, что если сравнивать возможности хорошей школы тогда и сейчас, то сегодня этих возможностей намного больше. Хотя бы потому, что сегодня стали куда свободнее учителя-гуманитарии; я сейчас не говорю о нашем математическом, естественно-научном образовании, скорее всего, оно действительно было конкурентоспособным, что следует из косвенных источников, хотя бы из Первого американского доклада «Нация в опасности».
В лихие 90-е большинство учителей либо пошло в другие профессии, чтобы выжить, элементарно выжить, либо совмещало это со вторичной и прочей занятостью. Естественно, шансы мирного перехода в постиндустриальное общество (и соответственно в образовательную систему постиндустриального общества) были упущены. Среди прочего и потому, что в большинстве школ действительно не было кадров. Я тогда работал в совершенно обычной школе, помню, как мы искали учителей где попало. Если приходил учитель английского, закончивший двухгодичные курсы, это было большое счастье, потому что денег не платили даже в Москве. Я не говорю уже о регионах, где по три-пять месяцев денег не платили, а потом и вовсе «прощали».
Следующий миф отразился в нашем вопроснике: учитель способен выигрывать войны и создавать нацию. Конечно, школа — это общенациональный институт в каком-то смысле; более того, я полагаю, что сегодня школа, безусловно, не должна отказываться от такой обязанности, как выстраивание совместно с детьми некой иерархии ценностей. Но тогда, господа, давайте все-таки начнем с того, что если в обществе вранье стало национальной идеей, то вряд ли школа как институт в одиночку, сама по себе, может эту проблему решить. Хотя, безусловно, должна к этому стремиться. Наконец, последний миф, о котором мои коллеги сегодня говорили, в частности, Александр Николаевич Привалов: безусловно, реформа всегда навязывается сверху. Вообще часто приходится слышать, что в России реформы могут идти только сверху, потому как снизу они становятся революцией. Но в образовании реформы сверху доказали свою полную непригодность. Тут может быть очень много причин, одна из них — реформы делались по методу сиюминутному. Кроме 1984-1986 годов еще был 1997-й, было начало 2000-х, и введение ЕГЭ действительно было очень интересно, но в реформе, с ним связанной, отразилось общее пренебрежение интересами обычного человека. Мы взяли нормальный образец национального экзамена, их много существует в мире, но при этом предложили его школе в жуткой безальтернативной форме, в основном тестовой; экзамен сдается один раз, ошибка смерти подобна. Я не говорю о содержании контрольно-измерительных материалов — это особая тема, хотя их пытаются улучшать, иначе построить вопросник по гуманитарным предметам. Но американцы 50 лет потратили на то, чтобы сделать более или менее валидные задания. А нам пришлось делать на коленке, к определенному дню, да еще в сочетании с нашей «академической честностью»; понятно, какие результаты мы получили. Математику может сдать практически любой. Когда мой сын сдавал ЕГЭ, я демонстрационную версию сделал на «тройку», при том что в советской школе у меня была «тройка» очень слабенькая.
Беда реформ в том, что они отражают ситуацию в обществе. Нельзя в школе гарантировать свободомыслие, все блага человеческой цивилизации и права человека, если общество не разделяет эти ценности. Но в школе можно сделать другое (что как раз и происходит): создать модель такого общества, где мы все хотели бы жить, вместе с детьми, которые вырастут и пойдут дальше. Это во многих школах делается, не только в 7-10 процентах; как раз социальные проекты — достаточно распространенная школьная практика. Школы занимаются благотворительностью, причем не потому, что надо отрапортовать. Да, конечно, был Год благотворительности, и мы все получили такую форму, где надо было отчитаться, сколько благотворительных телодвижений было сделано. И все-таки неформализованный опыт тоже существует. Но главное, чему научились и дети, и мы за эти 20 лет: опыт совместной методологической защиты. Слава Богу, все-таки школа в ее оперативном режиме и государство живут в несколько параллельных пространствах. Что позволяет хорошим школам достойно решать задачи, которые они сами перед собой ставят, исходя из собственного понимания общественного блага.
При этом есть еще одна серьезная проблема: система образования в 1990-е годы была абсолютно бедная, сегодня она побогаче, это зависит от региона. Есть Москва, Пермский край, еще несколько регионов, которые вкладывают в образование, но в огромном количестве регионов учителя по-прежнему получают нищенскую зарплату, и идея превращения учительства в средний класс (выдвинутая, кстати, социологами, а не педагогами, причем еще в 1990-е годы) так и не реализовалась. Потому что человек, получающий 7-10 тыс. рублей, при потребительской корзине в половину московской, не может быть ни средним классом, ни каким другим.
Но, с другой стороны, общественная дискуссия часто затухает, не начавшись. Все обратили внимание на стандарты, бурно обсудили их, не дали себе засохнуть, а по 83-му федеральному закону немножко поспорили и перестали. Между тем, 83-й закон позволит таким школам, как наша, некоторые вещи делать лучше и успешнее. А 70 процентов школ, если не все 80, окажутся в экономической катастрофе. У них нет платежеспособного спроса, у них нет инвесторов, которые финансировали бы какие-то интересные программы, а родители заплатить за дополнительные образовательные услуги просто не в состоянии.
Александр Привалов : Можно маленькую реплику, чтобы у людей не было иллюзий по поводу 83-го закона, который дает школам автономию? Я только что из Татарстана (не буду называть конкретный город и подводить людей, они боятся); так вот, там все школы по приказу мэра объявлены автономными. Никаких чековых книжек не дали, казначейство осталось. Я говорю: у вас знаете, что происходит? Если принимать одновременно виагру и снотворное — любовь, похожая на сон. С одной стороны, возбуждает, вы свободны! А с другой — ничего не дает. Вот это называется фарисейство. И 83-й закон так и составлен, он позволяет регионам имитировать финансовую независимость: даже и здесь ложь, не говоря о содержании. Поэтому не только в отсутствии денег дело; проблема в этой вертикали, которая держит и не пускает никого, даже школу. Вот и все.
Михаил Шнейдер : Но 70-80 процентов школ просто не дойдут до таких сложных вычислений, потому что они просто разорятся. Но на это обратили внимания значительно меньше, потому что, видимо, эта сфера менее интересная. Поэтому, с одной стороны, мы можем говорить об очень серьезных успехах тех школ, которые сумели выжить по тем или иным причинам, и сумели привести в школу заинтересованных людей из бизнеса, из сферы госуправления; с другой стороны, стоит согласиться с тем, что общее состояние системы образования крайне печальное.
Наконец, есть еще один ресурс. Ресурс тех людей, которых, скажем так, все-таки нельзя не слушать. Во всех регионах представители интеллектуальной элиты, которые много об этом говорят и пишут, должны объединить свои усилия с учителями. Учительские сообщества — вещь очень сложная. Неделю назад в Москве состоялся Учредительный съезд Всероссийской ассоциации учителей истории и обществоведения. То, что я услышал на заседаниях, когда выступали представители СМИ, повергло меня в глубокое уныние. Правда, я не думал, что будет что-то такое выдающееся, но после того как выступили академики, рассказали много интересного, настали будни — обсуждалось только три вопроса. Первый вопрос: по линейке или по концентру преподавать историю? Второй: как бы ликвидировать обществоведение в средней школе и отдать все часы на историю. И третий вопрос: как бы не платить членские взносы в 100 рублей, потому что мы будем работать, а не бизнесом заниматься. По этому поводу чуть до драки не доходило. Только к концу, когда выбрали Центральный совет из 88 человек, решили, что съезд собирается раз в три года, а Центральный совет из людей из разных регионов будет что-то все-таки делать.
И это тоже интересная ситуация. Институциональное оформление педагогического сообщества отсутствует. Есть Совет ректоров, но нет Совета директоров школ России и нет особого желания его создавать, потому что это хлопотно, отдельные инициативы, к сожалению, тонут. Но нам от этого все равно никуда не деться. Одной из основ такого будущего развития можно считать сетевое взаимодействие школ, на которое были вынуждены пойти: школы делятся друг с другом ноу-хау по различным экономическим вопросам, делятся различными формами и методами работы с организациями, контролирующими, надзирающими; жизнь заставляет это делать. Я согласен с Евгением Александровичем — на настоящую реформу, идущую от самой школы, понадобится 30-40 лет, в оптимистическом сценарии, может, 15-20, уж сколько получится, — но ждать, что завтра мы получим другую систему образования и что если на место этих реформаторов придут другие, реформа получится удачнее — боюсь, это то же самое, что перепрыгивать пропасть в два прыжка.
Контекст: фрагменты дискуссии
Георгий Бовт
— Как-то я был в музее художника Поленова под Тулой. Войдя в зал, где висели его итальянские пейзажи, экскурсовод начала с такой фразы: «Когда я первый раз побывала в Венеции.». И дальше начала сравнивать свои впечатления с поленовскими. Ее выступление вызвало большой интерес, сгрудились люди из других экскурсий, потом к ней подошла руководитель туристической группы и сказала: в следующий раз мы хотели бы специально приехать, чтобы послушать только вас. Экскурсовод ответила: без проблем, оплатите мне билет из Парижа, и я прилечу. Это к вопросу о том, а кто будет преподавать такой невиданный предмет, как «Россия в мире»?
Александр Привалов: Слава Богу, он уже отвалился. Все.
Георгий Бовт: Но идея-то была. А кто будет преподавать углубленные предметы гуманитарного цикла? Люди, которые получают 7-8 тыс. рублей, это минимальная зарплата, в отдельных регионах она приподнимается, в Москве 45 тыс. — предел мечтаний. Кто эти люди? Это люди, которые не только не способны преподавать эти предметы на углубленном уровне, они не способны и к самоорганизации на уровне ассоциации. От них наивно ждать общественного подъема и требований, адресованных правительству.
Статус учителя — это такая вещь, которая, видимо, не поддается реформам ни снизу, ни сверху, тем более что верх в данном случае бездействует. Не считать же Фурсенко в самом деле верхом только потому, что он был в кооперативе «Озеро». Но если страной управляют троечники, то не создается заказа на мерито-кратию, не создается той атмосферы, когда первое лицо могло бы 1 сентября прийти в простую школу без ФСО и почитать там книжку, выступить по телевизору, что-нибудь сказать про пользу знаний или поучаствовать в просветительской телепередаче. Как это сделал недавно чернокожий американский президент, снявшись в передаче «Сокрушители мифов» поDiscovery Channel, где проверяются вещи, связанные так или иначе с естественными науками — может ли жук, летящий навстречу мотоциклисту, при попадании в трахею убить его, на какой скорости для этого должен жук лететь и сколько весить.
Нет этого заказа, нет порождающей его атмосферы. Но именно он должен быть первичным посылом. А вторичным должен стать абсолютно альтруистический и рациональный проект, который перво-наперво откажется от бухгалтерского подхода в формировании школьного образования и вбухает в образование большие деньги, чтобы в школу пришли другие люди, и начальная зарплата учителя составляла минимум тысячу долларов. Реформы среди нищих — это нонсенс. Я интересовался, каковы годовые доходы американского учителя, который преподает на углубленном вариативном уровне. В самых бедных штатах начинающий учитель получает 30 тыс. долларов в год, а в богатых — до ста. И это уже уровень, сопоставимый с доходом профессора в хорошем университете. Совершенно другая категория людей должна прийти, и тогда можно создавать какие угодно стандарты, школе это будет совершенно безразлично, потому что хороший учитель справится с любыми бредовыми документами, которые сейчас пишутся.
Важность проекта «Образование» превыше футбольного чемпионата, даже превыше полета на Марс; начаться он должен с алармистского доклада, подписанного авторитетными фамилиями, о том, что образование в стране просто катастрофическое, оно рухнуло. Такой проект должен быть осуществлен при поддержке самых первых лиц, если они когда-нибудь заинтересуются этой проблемой.
Дмитрий Быков
— Помимо повышения зарплаты учителям, нам надо всячески развивать и поощрять институт школьной олимпиады, поскольку именно олимпиады по литературе, по математике, по физике дали нам практически всю современную элиту. Не будем забывать, что Перельман, самый известный ученый в России, а может быть и в мире математик, — это питомец системы олимпиад, сначала петербургских, а потом международных. В этом смысле самое благое дело делает Юрий Вяземский, который обеспечил огромную вертикальную мобильность, приведя провинциалов и детей из бедных семей в МГИМО. Я, преподавая там, хорошо вижу, что дети, которые пришли через «Умников и умниц», — единственные мотивированные на фоне зажиревших мажоров, которые ничего уже делать не способны. Вот это единственная близкая всем нам по духу бескровная революция: привести в элитные учебные заведения тех детей, которые хотят учиться, а не тех, у чьих родителей есть соответствующие возможности. И это сделать очень легко, и деньги особые не нужны.
Анатолий Адамишин
— Я хотел бы подхватить редкие струи оптимизма, которые здесь прозвучали, и сказать несколько добрых слов о русской интеллигенции. Думаю, что дворянская и разночинная интеллигенция XIX — начала ХХ века — это действительно соль земли, это действительно лучшее, что дала цивилизация всех времен и народов. Просто методом исключения: посмотрите, нигде нет больше такого слоя, такой категории граждан, которая сочетала бы в себе благородство, образованность, ум, полное отсутствие хамства с одновременным вниманием к общественному благу, которое ставится выше личного блага. Царская армия была единственной, воевавшей в Первой мировой войне, где офицеры шли впереди солдат.
Естественно, плохая им досталась доля. Большевики, выслав эшелонами прежнюю интеллигенцию, тем не менее, начали готовить свою, понимали, что не обойдутся без нее. И, кажется, перестарались. Во-первых, появились такие особи, которые повторяли лучшие черты традиционной русской интеллигенции. Хочу привести один небольшой пример исторической несправедливости: люди, которые приняли решение о втягивании СССР в войну в Афганистане — Брежнев, Андропов, Устинов, Громыко — до сих пор на хорошем слуху, а кто помнит, что единственный, кто пытался возразить, кто шел против общего мнения Политбюро, был начальник Генерального штаба маршал Агарков? Вот люди, которыми можно гордиться! Во-вторых, возросла масса образованных людей, о которых говорил Дмитрий Львович Быков. И они явились как раз основой перестройки и благих перемен, произошедших в нашей стране.
Нынешняя власть эту ошибку не повторяет. Она вряд ли знает формулу Писарева — «Наша нищета от невежества, а невежество — от нищеты». Не зная этой формулы, она действует на оба коромысла, что называется, поощряя и нищету, и невежество. Причем старается обойтись без интеллигенции. Ведь фактически в чем заключается функция интеллигента? Понять, что происходит, и постараться объяснить. Нынешняя власть говорит: мы обойдемся без тебя. Мы сами объясним, что надо. И пользуется технологическими возможностями, которые дала нынешняя эпоха. Если 80 процентов людей свою политическую информацию получают от телевидения, то ясно, что в руках у власти исключительно мощный инструмент зомбирования. Я согласен с теми, кто говорит: нам остается набраться терпения и пытаться везде, где можно, противостоять этому зомбированию, и где можно, готовить, просвещать людей, надеясь, что критическая масса сыграет еще раз.
Леонид Григорьев
— Я наблюдаю собственного ребенка в 11-м классе, являюсь одновременно деканом, профессором и работодателем. И поэтому прекрасно понимаю, что основная наша проблема заключается в том, что мы не можем сбалансировать всю цепочку. Мы хотим на небывалую высоту поднять школьного учителя, но если не будет соответствующей системы высшего образования, или останется один наш университет (а я, как легко догадаться, связан с Вышкой) — тщетны наши усилия. Если же мы все-таки выпустим хороших специалистов, не дадим рабочих мест, возникнет новая проблема. В целом, если всерьез говорить о сохранении интеллигенции, — бессмысленно восстанавливать какое-то звено, когда соседнее выпадает. Это вопрос всей цепочки.
Я, честно говоря, решаю эту проблему просто: мне приходится время от времени менять место работы, расти вместе с очередным поколением детей, с очередным поколением учеников, как бы двигаться по жизни вместе с тентом, перетаскивать его, поднимать повыше, чтобы как-то запихнуть под эту защитную систему еще кого-то. Я выращиваю все эти десятилетия поколение за поколением, мои ученики почти все здесь, многие сначала уехали, потом вернулись. Кстати, любопытное наблюдение — середняк застревает на Западе в финансовой ловушке, он не может вернуться, разрыв денежный в два-три раза. Возвращаются только самые сильные, потому что за границей все они упираются в потолок. Почему? Потому что не меняют гражданство, а гражданин России на Западе не может сделать карьеру выше определенного уровня. В мире русские стали профессиональным средним классом, 300 тыс. в Берлине, 300 тыс. в Лондоне, миллион во всей Европе. В Евросоюзе нет русских сантехников или водителей автобусов, их поставляет Восточная Европа, а у нас половина интеллигенции там. Если вы хотите выступить в Лондоне перед хорошей аудиторией (а мы приезжали с юристами, собралось 400 человек), перевод не понадобится. Это будут русские молодые люди в возрасте от 20 до 35; им интересно, что в России нового. У нас еще есть необсужденная проблема, как мы обеспечиваем взаимодействие между двумя «крыльями» интеллигенции, здешней и тамошней.
Моя семья уже 110 лет занимается преподаванием, и я буду продолжать учить, но, повторяю, я реально продумываю, кого, куда, на каком году отправлю, кого потом привезу обратно, — и это ответственность, кстати, моего поколения. Мы последнее поколение послевоенное, которое успело достичь уровня проектных менеджеров при советской власти; мы как-то умеем организовывать широкий процесс, а следующее поколение является в массе своей частичными специалистами в узких областях, очень мало интеграторов. Хотя есть выдающиеся люди. В самолете по пути в Пекин я познакомился с выдающимся скрипачом Вадимом Репиным, у него квартира в Москве, он в Москве живет три дня в месяц. Когда следующий раз в Москве играешь? В ноябре. Это человек мира, часть новой разъездной элиты. Относиться к этому вопросу нужно стратегически; мы же сюда пришли не просто пожаловаться друг другу на неправильное устройство попугайской клетки, по классической терминологии, а поговорить всерьез о реалиях жизни. Но тогда это вопрос цепочек, на какие отрасли ставить, какие векторы учитывать.
Константин Эггерт
— Давайте вспомним 60-70-е годы в России, в Москве. Тоже остро стоял вопрос хорошей и плохой школы. Вся Москва знала, что есть 20-я, 22-я, 31-я, 60-я, 57-я школы, и есть все остальное. Поэтому проблема прекрасного советского образования, прекрасной советской медицины, где проработала моя мама 43 года, — это милый миф. Мягко говоря, было очень много сложностей; что же до последующей разрухи, то после краха прежней политической модели ничего, кроме хаоса, произойти в образовательной сфере не могло. Второе, что мне хотелось бы сказать уже как отцу сегодняшних школьников. Я наблюдаю за тем, что происходит в школе, причем в хорошей московской школе, и прихожу к выводу, что проблема не в слабом финансировании (там, где учатся мои дети, финансирования хватает), даже не в отсутствии каких-то образовательных программ (потому что хорошие учителя всегда находят возможность чему-то научить), и не в малом заработке (в Москве учителя получают не так плохо). А в том, что нынешняя российская школа не может быть оторвана от общего социально-политического российского контекста. И сегодня она мечется между тем, быть ли ей школой навыков, то есть готовить кадры для экономики. Кто-то будет сантехником, а кто-то будет директором банка или министром. Или школой воспитания, каковой была советская школа.
Хорошей или плохой была советская система, это другой вопрос, но то была школа, которая воспитывала советского гражданина. Невозможно воспитывать нового российского гражданина (вернусь к тому, о чем говорил господин Чапнин), если страна, ее политическое руководство, ее интеллектуальные силы, в том числе собравшиеся здесь, не представляют себе, а что является сегодняшней Россией и какой мы хотим ее видеть, что нас объединяет, кроме рубля, языка и телевизора. В этой ситуации, я думаю, перед школой ставят невозможные задачи, реформируй ее или не реформируй. Мне кажется, кризис будет тянуться до тех пор, пока не появится ясность у самого общества по поводу того, каким оно хочет видеть себя и сегодняшнюю Россию. Печально, но для меня это очевидный факт.
ОСОБАЯ ПАПКА
Павел Лунгин:
«Культура снимает с людей скафандры одиночества»
Люди потеряли смысл, цель в жизни. Они чувствуют себя одинокими, обиженными. Они чувствуют себя как-то неуютно. Они не объединены в народ. Видимо, ситуация эта дошла до того, что проблема общих национальных ценностей, объединяющих Российскую Федерацию в единую страну, оказалась под вопросом.
— Сегодня, когда говорят о современной культуре, часто начинают ее жалеть. Говорить, что раньше было все хорошо, а теперь все плохо, и дальше будет только хуже.
— Я бы поставил вопрос по-другому. Почему Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике посвящена вопросам культуры? Казалось бы, что общего? Но вопросы культуры сегодня выходят, как ни удивительно, на первое место. Ведь никто не понимает на самом деле до конца, что такое культура. Культура — это не просто книги, театры или люди, смотрящие телевизор. Культура — это та незримая духовная связь, которая объединяет общество, делает из людей народ. Вот говорят — русская культура, говорят — французская культура. То, что делает из французов — французов, это и есть их культура. Также как то, что делает из русских — русских, это наша культура.
Речь идет о том, что в стране так мало занимались этой самой культурой, что в результате распалась связь между людьми. Связь, которая существует и объединяется общими ценностями и общими смыслами. Пропали сейчас в России общие смыслы. Непонятно, куда идем. К материальному благополучию? Оно приходит ко многим: улицы полны машин, люди ездят за границу. Но дело в том, что люди потеряли смысл, цель в жизни. Они чувствуют себя одинокими, обиженными. Они чувствуют себя как-то неуютно. Они не объединены в народ. Видимо, ситуация эта дошла до того, что проблема общих национальных ценностей, объединяющих Российскую Федерацию в единую страну, оказалась под вопросом. Поэтому я очень рад, что СВОП понимает это и считает, что его дело, его долг — говорить о культуре.
— А как обстоит дело в России с общими интересами?
— В СССР действительно были общие интересы у людей. Они заключались в усилении могущества страны во имя социализма, коммунизма. Человека все время насильственно втягивали в эту систему, создавали иллюзию, что он живет ее интересами. А сейчас человек не живет интересами государственной системы. Капитализм не предусматривает объединения людей во имя укрепления мощи государства. Более того, сам принцип капитализма состоит в том, что ты сам за себя, ты должен доказать, что ты умнее, что ты талантливее, что ты хитрее, ловчее. Мир живет по принципу простой биологической экспансии — это естественная форма жизни.
Но что такое Россия? Те люди, которые читали Толстого, Достоевского, Чехова, которые вобрали их в себя, они и есть российские люди. Для всего мира Россия ассоциируется с ее культурным наследием. Школа, которая учит математике, а не учит литературе, — это школа, которая ставит под удар, как это ни парадоксально звучит, нашу обороноспособность, единство и целостность нашего общества и мира. Сейчас люди чувствуют себя отдельными атомами, которые плохо складываются в единое целое. И эти атомы не соединяются. Культура же снимает с людей скафандры их одиночества. Поэтому не случайно, что все европейские страны вкладывают огромные деньги в развитие культуры, вроде бы в такие бессмысленные вещи. Когда я жил во Франции, я видел, какие огромные деньги вкладывает в культуру французское правительство. Причем де Голль почувствовал необходимость таких вложений еще в 50-е годы. Это и защита французского языка, и обязательное преподавание французской литературы во всех школах. Французские школьники учат наизусть куски прозы и километрами французские стихи. Огромные деньги вкладываются в театры, в кино. Для того чтобы французское кино противостояло американскому, этому империализму на уровне искусства. Деньги вкладываются в мастерские для художников, в мастерские для писателей. Это целенаправленные политические задачи, которые решаются уже много лет.
Мы же все время думаем об экономике, о ценах на нефть. Культура финансируется всегда по остаточному принципу. Но оказалось, что без культуры эта экономика, эта нефть не выполняют свою функцию.
— Павел Семенович, вы, когда заговорили о России, то с ходу назвали имена — Чехов, Толстой. Но почему таких знаковых для мировой культуры имен нет сегодня?
— Тарковский в кино. Имен везде мало. Мало великих писателей. Смотрите, выбор лауреатов Нобелевской премии по литературе с каждым годом все слабее. Наверное, это процесс общемировой. Все меньше великих фильмов, которые потрясают тебя до глубины души. Хотя они есть. Ведь на Западе так серьезно поддерживают культуру, потому что у них она тоже в слабом состоянии. Она пошатнулась под ударами дешевого кино, развлекательного интернета. Культура все-таки была делом элиты, создавалась представителями элиты. Элитой же потреблялась, и только потом шла в массы. Сейчас элиты меньше занимаются культурой. А наша элита, я считаю, катастрофически не интересуется культурой. Они в душу не берут эту культуру. И народ копирует это отношение.
— Как вы относитесь к такому понятию, как американская мечта? Нужна ли «русская мечта» России?
— Необходима. А иначе ради чего живут люди? Они же не живут для того, чтобы купить новую машину или новый шкаф. Через литературу, театр, хорошие фильмы проходит мечта о русской душе, о русском характере, о некотором идеализме русских, о жертвенности, о возможности жить общими интересами. Но мечта о справедливости, к сожалению, закончилась революцией, которая многое перечеркнула. Однако инерция культурной России была так велика, что даже после революции эта культура инерционным ходом шла и давала великих поэтов — Мандельштама, Пастернака, Ахматову, Цветаеву. Говорю о масштабах. Масштаб Бродского, последнего нашего великого поэта. Но это все инерция, которая шла еще из XIX — начала ХХ века. Чтобы эта линия не прервалась, чтобы Россия не стала просто сообществом экономически сосуществующих людей, необходимо серьезно вкладываться в культуру. Государство частично это понимает: большие дотации даются кино, театрам. Но это понимание все равно робкое. Власти не до конца осознают критичность сложившегося положения.
— Можно ли говорить, что в нашем обществе сохранились какие-то идеалы, или сейчас настало время исключительно прагматизма?
— Мне кажется, что если идеалы и существуют, они существуют в мире отдельного человека, под его скафандром. Они сейчас не объединяют людей. Им бывает даже неловко, они вынуждены свои идеалы скрывать, чтобы не казаться смешными, глупыми, наивными.
Мы заражены общемировым вирусом. Не надо думать, что это происходит только в России. Наши кинозрители — молодежь от 14 до 18-20 лет, они ходят в кино только на развлекательные фильмы. Взрослые в кино вообще не ходят. Люди раньше вспоминали фильмы, которые видели в детстве. Эти фильмы стали вехами, отметками, их общими воспоминаниями о жизни. Это очень интересное явление, которого сейчас мы абсолютно лишены.
Поэтому у нас происходят удивительные вещи. Например, не пользуется успехом драма, которую любят во всем мире. У нас нет фильмов о современной семейной жизни, об отношениях людей, нет фильмов, которые говорят о конфликте отцов и детей, у нас даже детективы не имеют успеха, молодежь опростилась до того, что она перестала считывать сложный сюжет. Ходят на скетчи, на это у них интеллекта хватает. Все это говорит о том, что образованность стала не престижной, английский язык учат не для того, чтобы на нем читать художественную литературу, а чтобы работать в какой-нибудь фирме. Быть культурным человеком стало почти стыдным.
— Неужели все настолько критично?
— Общество очень тонко реагирует на те ценности, которые ему транслируются элитой. Когда изменится отношение к культуре со стороны элит и государственных мужей, народ тут же начнет реагировать, это совершенно очевидно.
— Но ведь одним вложением денег здесь не обойтись.
— Прежде всего надо думать об этом. Можно ли окончательно вылечить эту духовную болезнь, я не знаю, но то, что ослабить ее можно, это точно. Пора увидеть опасность, поставить задачу и постараться решить ее. В результате нашего культурного дефицита Россия может расслоиться на два народа — те 5-8 миллионов, которые продолжают жить в культурном мире и разделять общекультурные ценности, и другую, большую Россию, которой они кажутся абракадаброй. Модернизация касается и духовной сферы. Я так понимаю ее задачу: объединение этих двух Россий.
— Но во все времена интеллигенция традиционно считала, что власть оказывает недостаточное внимание культуре.
— Нет, раньше проблема заключалась в том, что власть слишком много внимания уделяла слову. Мы жили во времена цензуры, и в XIX веке, как вы знаете, и в XVIII веке, когда наказывали Фонвизина, когда царь сказал Пушкину: я буду твоим цензором, когда при советской власти выгоняли людей из Союза писателей, арестовывали. Однако даже в этой суровости цензуры по крайней мере был интерес и внимание к культуре, власть верила в силу слова.
Сейчас — пиши что хочешь, говори что хочешь, делай что хочешь, нет никакой реакции, ни положительной, ни отрицательной. Вообще никакой реакции. Поколение старших кинорежиссеров практически перестало работать после того, как исчезла цензура. Я много думал об этом. О том, почему этим талантливым людям, не хочу называть их имена, после того, как ушла цензура, было нечего сказать. Возможно, потому, что им не хватало не запретов, а пристального внимания к их творчеству. Это сложная и противоречивая тема. Я просто пытаюсь сказать, что даже когда существовало неравнодушное, злобное цензурирование — это все равно было выражение интереса власти к культуре. Сейчас этого нет — пиши что хочешь, все равно это никого не волнует. Это нематериально. Материальная сила — это только деньги. Но когда деньги стали единственной целью и материальной силой, оказалось, что люди распадаются на отдельные элементы. У французского писателя Мишеля Уэльбека есть сильная вещь, которая называется «Элементарные частицы». Вот мы в России тоже становимся элементарными частицами.
4. Русский язык как следствие модернизации и как форпост традиции
Основные вопросы раздела:
- Сохраняет ли русский язык свое мировое значение? Продолжает ли влиять на позиции России в мире?
- Согласны ли вы с тем, что самая успешная модернизация в России связана с обновлением русского литературного языка, произведенным Пушкиным? Была ли связана эта языковая модернизация с обновлением традиционных ценностей русской цивилизации, ее «языковой картины мира»? Работает ли сейчас пушкинский «модернизационный проект»?
- Формирует ли язык национальную картину мира, или это не более чем лингвистическая метафора? Если да, то как бы вы кратко описали русскую языковую картину? Чем она отличается от немецкой,украинской, американской?
- Какие культурные константы заложены в русской языковой картине? Под воздействием каких факторов и с какой скоростью они меняются? Можно ли, воздействуя на язык, влиять на сознание, и наоборот? Как меняется современный русский язык? Как он работает с мощным потоком новых реалий, складывающихся у нас на глазах общественных и профессиональных отношений? Затрагивают ли эти перемены самую суть ценностей, зашифрованных в языке, или это процессы автономные?
- Не разрушают ли бесконечные заимствования, прежде всего недопереваренные англицизмы, русскую языковую традицию? На одном ли языке говорят советские и постсоветские поколения русских людей?
Вячеслав Никонов
Русский язык русского мира
Накануне Первой мировой войны русский мир существовал в пределах Российской империи; в ней жило 170 млн человек. В то время население планеты не достигало и полутора миллиардов, то есть каждый восьмой на планете проживал в пределах Российской империи. Сейчас население Российской Федерации, как вы знаете, 142 млн человек. Население планеты приближается к семи миллиардам. Таким образом, в пределах Российской империи проживает только каждый пятидесятый землянин. XX век был для русского мира, русского языка трагичным. Войны внешние, гражданские, репрессии, распад государства. Тем не менее пик числа людей, которые в мире говорили по-русски, приходится на конец 1980-х годов: тогда эта цифра достигала 350 млн человек, из них 290 млн жили в Советском Союзе, плюс русский язык был обязательным к изучению в школах стран Варшавского договора.
Что произошло с тех пор? С тех пор количество людей, говорящих по-русски, за 20 лет сократилось, по разным оценкам, на 60-80 млн человек. Вымерло старшее поколение в странах СНГ, которое поголовно говорило по-русски, и выросло молодое поколение, которое по-русски говорит далеко не поголовно. Естественно, в Восточной Европе произошло то же самое — старшее поколение говорило по-русски, молодое поколение сейчас порусски не говорит. Количество людей, считающих русский язык своим родным, в Российской Федерации — 30 млн человек, в СНГ -25 млн, и 7 млн человек в странах дальнего зарубежья считают его своим родным языком. То есть всего 160 млн человек сегодня считают русский язык родным. Плюс владеют русским как вторым языком, третьим языком еще порядка 110-140 млн человек. Ни один язык на планете в истории человечества не исчезал так стремительно, как русский язык за последние 20 лет. Тем не менее он по-прежнему является где-то пятым-шестым на планете. Первый язык — китайский, свыше миллиарда носителей, английский и испанский родным считают по 400 млн, хинди — 330 млн, дальше идут арабский и русский.
В странах СНГ ситуация не вызывает вопросов, только, пожалуй, в Белоруссии, а также в непризнанных республиках — Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье и в таком регионе Молдавии, как Гагаузия. Он по большому счету русскоязычный. Относительно неплохие условия для существования и развития русского языка в Казахстане, в Киргизии, в остальных республиках ситуация плохая.
Мы проводили исследования во всех странах СНГ, за исключением Туркменистана и Узбекистана, где это невозможно сделать из-за запретов на подобного рода работы, выясняли, на каком языке общаются в семье и дома. В Белоруссии 62 процента говорят дома по-русски, в Казахстане 43 процента, во всех остальных республиках большинство населения говорит дома на своем родном языке, не на русском. В Украине 45 процентов по-украински, 38 по-русски, в Латвии 56 по-латышски, 37 по-русски, в Киргизии 56 по-киргизски, 20 по-русски, в Молдове 69 процентов по-молдавски, 18 по-русски, в Таджикистане, Азербайджане, Грузии, Армении, Литве дома по-русски говорят от одного до четырех процентов опрошенных.
Спрашивали мы и насчет детей: если у вас есть несовершеннолетние дети, то в какой мере они владеют русским языком? В Белоруссии 72 процента ответили «свободно», в Казахстане половина детей свободно владеет русским, в Литве, Эстонии, Азербайджане, Грузии, Таджикистане большинство детей вообще по-русски не говорит. Наибольшая потребность в изучении русского языка в тех республиках, которые нам дают гастарбай-теров. Хотели бы хорошо знать русский 67 процентов жителей Таджикистана, 53 процента жителей Армении, 22 процента жителей Грузии и 19 процентов жителей Молдовы. По количеству школ с обучением на русском языке в среднем сокращение было в три раза за последние 20 лет.
Есть государства, где преподавание на русском языке почти не ведется. Например, в Туркмении существуют только две русские школы. Естественно, ситуация на Украине более известна, в Киеве в советское время было 258 школ с преподаванием на русском, к концу правления Ющенко оставалось четыре, сейчас их количество растет и вновь появляются детские сады на русском языке, которые были полностью закрыты еще два года назад.
Если мы посмотрим на Восточную Европу, на территории которой раньше русский язык изучался практически везде, и старшее поколение еще язык помнит, хотя им не пользуется, то в некоторых восточноевропейских странах русский невозможно выучить даже как второй или третий иностранный. Например, в Венгрии, Румынии, Чехии, Словении, Боснии и Герцеговине и в Хорватии.
В конце 1980-х как специальность русский язык изучали в университетах Восточной Европы 1 млн человек, сейчас — 25 тыс. Всего количество людей в Восточной Европе, говорящих по-русски, мы оцениваем в 20 млн человек, причем отмечаем скачкообразный рост интереса к русскому языку на протяжении последних 5-7 лет. Например, в Польше в 1990-е годы русский язык по количеству изучающих его в школах занимал 16-е место, а сейчас он второй после английского, опередив немецкий. То же самое в Болгарии — в 1990-е годы русский язык был 14-м по количеству изучающих его в школах, сейчас он тоже второй после английского. Причины разнообразны. С одной стороны, уходят в прошлое некоторые антироссийские фобии, с другой стороны, торжествует прагматизм. Потому что люди, знающие русский язык, в Восточной Европе легче находят работу, в том числе в западных корпорациях, где они интересны как сотрудники, способные работать на восточных рынках, то есть в Балтии, Украине, Белоруссии, России; конечно, русский язык здесь нужен. Наш экономический подъем вновь позволил увеличить количество студентов и школьников, изучающих русский язык в Восточной Европе. Причем это характерно и для стран Балтии — Эстонии, Латвии, там тоже увеличивается количество людей, изучающих русский.
В Западной Европе был резкий обвал в сфере изучения русского языка после окончания холодной войны, поскольку, как мы знаем, на Западе в основном русский изучался в целях советологии; затем, в последние годы, опять-таки ситуация улучшается, лидером в этом процессе является Германия. В общеобразовательных школах Германии русский учат порядка 150 тыс. детей, дальше с большим отставанием — Франция, Англия и Австрия. В высших учебных заведениях в Западной Европе русский изучают где-то 30 тыс. студентов, аспирантов, в основном в Германии, Франции, Великобритании. Надо отметить, что происходит большой рост русскоязычных общин в странах Западной Европы, самая большая из них в Германии, по моим оценкам, около 3,5 млн человек, огромная община в Великобритании, в Испании, Греции и на Кипре. На Кипре русскоязычных уже больше 10 процентов населения.
В Азии русский язык не был сильно распространен, но он и не сильно пострадал от распада. Двадцать лет назад было приблизительно 5,5 млн человек, владеющих русским, сейчас — около 4 млн. Но даже в тех странах, где он доминировал — Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос и Монголия — везде он уступил место английскому как языку международной коммуникации, за исключением, пожалуй, лишь Монголии, где в последние годы принято решение, делающее русский язык обязательным предметом к изучению с седьмого класса во всех школах. Министр образования закончил МГИМО в свое время.
Есть государства, где русский как учебный предмет в школьной системе образования вообще не существует. Например, Афганистан, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Непал, Филиппины, Шри-Ланка. С недавних пор с нашей подачи русский начал преподаваться в некоторых высших учебных заведениях в Индонезии, на Филиппинах, в Гонконге. В Китае идет заметный рост количества центров русистики, причем достаточно стремительный (у нас там уже несколько центров есть). Но в то же время главный язык, который изучают в Китае, это английский, и преподаватели китайских вузов — это не выпускники российских вузов, а выпускники Гарварда или Кембриджа. В высших учебных заведениях Азии русский язык учат 200 тыс. студентов и аспирантов, из них только 15 процентов как основную специальность.
На Ближнем Востоке, в Северной Африке, в арабском мире русский был тоже достаточно распространен, сейчас до 200 тыс. выпускников наших вузов живут в странах этого региона — большого Ближнего Востока. Из них 100 тыс. в Сирии, 40 тыс. в Йемене, 30 тыс. в Ливии, 15 тыс. в Иордании, 10 тыс. в Египте. В этих регионах русский на подъеме во многом из-за туризма. Всего в арабском мире где-то 300 тыс. русскоязычных. В Израиле — это отдельная история, там «на четверть бывший наш народ», полтора миллиона русскоязычных, но проблема в том, что русский язык в школах возможно изучить только как второй иностранный, который начинается с 7-8 класса. Дети в русскоязычных семьях говорят по-русски, но при этом до 14 лет не умеют читать и писать, поэтому потом не выбирают русский предметом для изучения. Но ситуация не катастрофическая; несколько лет назад считалось, что русский продержится в Израиле еще лет 30, сейчас считается, что лет 50.
В Африке, к югу от Сахары, до 1990-х годов русский изучался в 40 странах в школах и разных учебных заведениях, сейчас только в трех — в Египте, Мали и Сенегале. Всего владеют русским порядка 120 тыс. человек, из них 100 тыс. — выпускники наших вузов.
В США, по моим оценкам, от 4,5 до 5 млн русскоязычных, в основном в Большом Нью-Йорке, в Калифорнии, на Среднем Западе. В штате Нью-Йорк, кстати, по инициативе Алека Брук-Красного, члена легислатуры штата Нью-Йорк от Брайтон-Бич, русский язык стал официальным, и уже бюллетени на последних выборах в конгресс в штате Нью-Йорк были в том числе и на русском языке. Там довольно много образовательных учреждений, где преподается русский. Мы провели специальные исследования, выяснили, что там три тысячи школ, где преподают русский язык, причем на первом месте оказался штат, о котором никогда бы никто не подумал — штат Техас, это нефть и космос. И около 200 вузов, где дается русский язык как специальность. Причем, что самое интересное, русскоязычное меньшинство по последней переписи оказалось самым продвинутым по уровню доходов. Средней уровень в полтора раза выше среднеамериканского и выше всех других этнических групп.
В Канаде поменьше русскоязычных, там большая украинская диаспора, которая по-русски не говорит, но считается, что до одного миллиона русскоязычных есть. Столько же, около миллиона, во всех 30 странах Южной Америки; это прежде всего выпускники наших вузов, а также русскоязычная диаспора. Там есть и большая русская диаспора, не говорящая по-русски. Причем православная, идентифицирующая себя как русская, но уже потерявшая язык.
И, наконец, Австралия. Там около 160 тыс. русских, причем в основном это представители первой волны эмиграции, белой эмиграции, которая прошла через Китай, которая заселила Харбин, а после прихода коммунистов к власти в Китае рванула в разные стороны, в том числе и в Австралию. Очень хорошо организованная, имеющая очень сильные лоббистские возможности. Интересный случай, когда украинская диаспора решила провести акцию «Зажги свечу», посвященную Голодомору, в ответ русская «харбинская» диаспора написала премьеру: «…это поставит под сомнение хрупкий межнациональный мир в Австралии», и акция была запрещена. Самоидентичность все-таки присутствует и там.
Таким образом, русский язык по-прежнему пятый-шестой на планете, но позиции, конечно, резко ослабевают, повторяю, ни один язык не терпел такого урона, как русский язык на протяжении последних 20 лет. Поэтому усилия по его поддержанию, да и в нашей стране тоже, должны быть, на мой взгляд, многократно увеличены. Но пока, увы, этого не происходит.
Ирина Левонтина
Лингвистический оптимизм
У меня сюжет совершенно другой: про сам русский язык и про то, как он живет и чувствует себя сейчас, как он меняется. Совершенно очевидно, что важнейшая культурная матрица, которая есть у каждого человека, это его родной язык. Это так называемая языковая картина мира, которую человек усваивает вместе с языком. О понятии «языковая картина мира» подробно говорить не буду, только укажу, что оно восходит к Гумбольдту, интерес к нему возрос в связи с исследованиями Сепира-Уорфа, сейчас много исследований по картине мира, в частности, одно из важнейших направлений возглавляет австралийская лингвистка и культуролог Анна Вержбицкая. Мы в Москве много занимаемся этим, в частности, я с двумя соавторами, Алексеем Шмелевым и Анной Зализняк. В частности, могу сослаться на нашу книжку «Ключевые идеи русской языковой картины мира», которая вышла несколько лет назад.
О чем идет речь? Попробую объяснить на простейших примерах. Как известно, в русском языке различаются синий и голубой цвета, в других языках они не различаются, хотя очевидно, что глаз устроен у всех одинаково. Просто другое членение мира закреплено в этом языке. Или, скажем, мы называем пальцами то, что на руках и то, что на ногах, а в других языках это разные слова. Может показаться, что это тривиально и неважно, но представим себе, что, например, локти и колени назывались бы одним и тем же словом. В принципе, это возможно: локти и колени соотносятся так же, как пальцы на руках и на ногах. Но образ человека был бы несколько иным — для нашего сознания. Представим себе теперь, что по-другому, как в иных языках, членится наше представление о «внутреннем» человеке, о его эмоциях, о качествах. Тогда все резко обостряется. И не то чтобы совсем нельзя было переводить с одного языка на другой, не то чтобы носители разных языков вовсе не могли бы понять друг друга, но некую поправку на разные картины мира мы делать должны.
Приведу еще один пример. Часто проводят сопоставительные исследования — социологические, психологические. Скажем, на такую тему: часто ли вы бываете счастливы? И сравнивают ответы американцев с русскими, приходя к выводу, что русские мрачные, а американцы оптимистичные. Но дело связано с тем, что американцам задают вопрос по-английски, а русским по-русски. Русское слово «счастье» — это состояние сильное, а по-английски слово «happy» можно употребить в совершенно другой ситуации, например, когда к человеку подходят на коктейле и спрашивают: are you happy — в смысле, есть ли у вас стакан, все ли в порядке. Когда без учета таких лингвистических вещей делаются социологические, политологические и прочие далеко идущие выводы, то результат заранее можно ставить под сомнение.
Причем, надо отметить, что особенно важны различия в том, что не декларируется, а как бы полагается самоочевидным и остается в подтексте. Мой соавтор и коллега Алексей Шмелев любит приводить такой пример: из пословицы «Любовь зла, полюбишь и козла» нельзя сделать никакого вывода о том, каковы в этой культуре представления о любви. Но точно можно сказать, что в этой культуре козел мыслится как несимпатичное животное.
Частью языковой картины мира является такая вещь, как этностереотип. Например, есть лингвистическая работа: В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина. «С чисто русской аккуратностью… » Что имеется в виду? Что так сказать, конечно, нельзя, будет смешно. Про аккуратность мы скажем «немецкая». Есть «французская галантность», «английская чопорность», «русская душа», «русское бездорожье», «русская бесшабашность», «русская расхлябанность», «русская лень». Мы, лингвисты, ничего не говорим о том, каков русский человек. Но речь идет о том, что в языке некоторые представления закреплены.
Этностереотип — это часть языковой картины мира. Тут вот еще что важно: есть какие-то идеи, которые повторяются во многих словах, какой-то смысл, который в них воспроизводится; они очень хорошо монтируются друг с другом, и это действительно культурно значимые слова. Например, в русском языке есть слово «простор», которое отличается от слова «пространство» тем, что в нем, в частности, выражается идея: большое количество места -это хорошо. Если мы посмотрим повнимательнее, то увидим, что в русском языке еще очень много подобных слов — «раздолье», «приволье», огромное количество прилагательных — «бесконечный», «безбрежный», «бескрайний», «ширь», «даль». Причем, если сравнить «ширь» и «даль», то выявится существенное различие: и то, и другое — большое пространство, и то, и другое хорошо, но ширь -это энергично-эпическое слово, а даль — возвышенно-лирическое. То есть положительно окрашенная идея большого пространства захватывает разные стилистические уровни, разные пласты; эта одна из сквозных идей русской языковой картины мира. Она повторяется, воспроизводится в словах «удаль», «загул», она переходит в идею «широты»: «широта русской души»…
Очевидно, что ни одна языковая картина не является и не может являться монолитной. Если мы вдумаемся в такие слова, как «гордость» и «жалость», то поймем, что в одном типе дискурсов, православном и близким к нему, гордость это плохо, а жалость -это хорошо. И есть другой тип дискурса, так сказать, горьковский, советский, в котором дело обстоит наоборот.
Мы обсуждали важную проблему, меняются ли культурные матрицы, или они неизменны; разумеется, та матрица, которая заключена в языковой картине мира, изменчива. И можно научным, ответственным способом проследить, откуда берутся, когда и как возникают многие культурно значимые слова. Возникают они поздно; те слова, которые мы считаем исконными и посконными, сложились в течение XIX века. Например, слово «неприкаянный», которое очень хорошо вписывается в «матрицу», вообще до конца XIX столетия в литературных текстах не встречается. А потом эти слова то застывают на время, то начинают бурно изменять свой смысл и статус. Сейчас — период перемен; русская языковая картина мира вступила в период бурной диффузии.
Приведу самый простой пример, тем более, мне его сегодня приятно процитировать: в первый раз я об этом публично рассказывала в передаче «Тем временем» несколько лет назад, и все участники той передачи — Александр Николаевич Архангельский, Константин Петрович Эггерт, Дмитрий Борисович Зимин и я, — присутствуют на этой Ассамблее. Пример вот какой: еще несколько лет назад в русском языке не существовало словосочетания «успешный человек». Прилагательное «успешный» можно было употреблять в сочетаниях «успешная деятельность», «успешная работа», «успешные переговоры». Но «успешный человек» сказать было нельзя. И переводчики испытывали большие трудности при переводе английского«successful man»;до сих пор можно прочитать на переводческих форумах старые записи: «как все-таки переводить? слово «преуспевающий» — это плохо, «успешный человек» сказать по-русски совсем нельзя, «состоявшийся человек» — это совсем другое». У Наума Коржавина есть стихотворение, в котором словосочетание «сэкссэссифул мэн» дано в дикой кириллической транскрипции, автор с отвращением пишет о нем, и там примечание -«successful man- успешли-вый человек». Совсем нельзя было сказать «успешный человек». А преуспевающий человек — это было допустимо, но не совсем хорошо. Кто такой преуспевающий адвокат? Грубо говоря, это не тот, который защищает диссидентов, а тот, у которого богатые клиенты и он очень ловко их отмазывает. Состоявшийся человек — это, конечно, было хорошо, но не уточняется, реализован он социально или нет. Может быть, он состоявшийся поэт, тома написал, но все это лежит в столе и не печатается. А преуспевающий поэт — это, понятное дело, совсем не Бродский.
Очень смешно: люди очень быстро забывают, что какого-то сочетания не было. Недоуменно спрашивают: а как же говорили? Да никак не говорили, потому что, как писала Цветаева, даже смысла такого нет. Потому что в русской культуре традиционно успех не принадлежат к числу важных экзистенциальных ценностей. Конечно, люди стремились чего-то добиться, гордились успехами детей, но успех не был в числе культурно значимых ценностей. И противоположный пример: неудачник. Конечно, плохо было быть неудачником, но все же у этого слова был симпатичный ореол, мы думали о Чехове, у него ведь прямо герой говорит: «Женщины любят неудачников». Мы можем вспомнить выражение «золотое клеймо неудачи». Для нас, наследников советской языковой картины мира, неудачник — это человек, который не достиг внешнего успеха, потому что у него душа, он не поступился чем-то важным в своей душе. Сейчас мы видим, что не только появилось выражение «успешный человек», но сам смысл слова трансформировался. У слова «неудачник» исчезает ореол симпатичности; более того, поскольку слово «неудачник» все-таки было слабоватым, еще появилось жестко окрашенное слово «лузер», которое очень активно употребляется. Я уже не говорю о слове «лох», которое в крайней форме выражает тот же смысл: если ты ничего не добился, то ты ничтожество.
С другой стороны, слово «успешный» стало реабилитироваться, точно так же, как слово «карьера» и «карьерист». Ведь раньше мы как-то стыдливо уточняли: «карьера в хорошем смысле». Почему в хорошем? Потому что вообще-то карьера — это было плоховато. Сейчас «карьера» звучит совсем хорошо, но и «карьерист» уже не так ужасно; это слово, особенно в языке молодежи, реабилитируется, мы читаем в объявлениях о вакансиях: «Нужны амбициозные карьеристы». Мало того, что карьеристы, так еще и амбициозные. Здесь еще и другая идея: слово «амбициозный» тоже было в русском языке «плохим»: почти все слова, в которых была идея, что человек высокого мнения о себе, уверен в своих силах, они все были окрашены негативно, в той или иной степени. Амбиция, самоуверенность, «уверенный в себе», таких слов очень много. Сейчас они все реабилитируются.
Тут можно бесконечно говорить; я уже лет 13 слежу за новыми словами, за тем, как ведут себя слова, как меняются значения. Но приведу еще лишь один пример. Русский язык всегда очень равнодушно относился к сфере среднего, нормы, особенно в том, что касалось человека. А какая сейчас высшая похвала? «Он человек абсолютно адекватный и совершенно вменяемый». Это два слова, которые чрезвычайно бурно развиваются, сделали феерическую карьеру за последние годы. Не было таких смыслов, что человек нормальный, средний, ведет себя в соответствии с внешними правилами, не сумасшедший, не имеет отклонений, и это хорошо. Есть еще слово «самодостаточный», про которое тоже можно говорить отдельно, оно сейчас особенно популярно, особенно в брачных объявлениях: «Самодостаточная девушка ищет самодостаточного молодого человека». Имеется в виду не только то, что у каждого из них своя зарплата, а то, что они свои психологические проблемы не будут вешать друг на друга.
Что сказал нам президент Медведев в своей «тронной речи»? Он сказал нам, что он хочет сделать Россию лучшей страной для комфортной жизни. Это чрезвычайно показательно, прилагательное «комфортный» тоже совершенно новое. На уровне лозунгов по-прежнему декларируется, что наша цель — величие, что наша задача — вставание с колен, но по таким прилагательным, как «комфортный», мы можем судить о том, что сменились ценностные ориентиры, и мы хотим быть не великими, а нормальными. А что тот же Медведев сказал в своем новогоднем поздравлении 31 декабря 2010 года? Он сказал, что хочет, чтобы Россия стала благополучной страной. Слово «благополучный» привычно для нас в военном контексте («благополучный исход операции»), но в контексте «благополучный человек» до сих пор тоже имело негативный оттенок. Благополучный человек -не симпатичный, в нем есть что-то мелкотравчатое, а в русской культуре все мелкое всегда оценивалось негативно. Благополучный человек — это тот, кто не прошел через серьезные испытания, а потому ничего в жизни не понимает и чувств у него нет глубоких. Но теперь реабилитируется и слово «благополучный».
Путин предлагал ставить перед Россией «амбициозные цели». Вместо тех «великих целей», которые были в лексиконе много десятилетий. Великие цели — это что-то туманное, непонятно, достижимо или нет. Амбициозные цели — трудно, но достижимые, в пределах человеческого разумения. Да что там Путин; во время наших дискуссий я специально считала: практически все выступающие в своей речи, а некоторые по многу раз, употребляли слово «вызов». Вызов в смысле английского«challenge».Это тоже совершенно новое слово, которого недавно не было. Сначала вместо «неприятности» стали говорить «проблемы», потому что проблемы нужно решать. А потом вместо «проблемы» стали говорить «вызовы». На которые положено отвечать. И не просто положено, но еще и хорошо, и интересно, и мы рады это делать. В таком движении популярных и частотных слов прослеживаются серьезные изменения языковой картины мира.
Лингвисты вообще смотрят на жизнь гораздо менее мрачно, чем многие гуманитарии, потому что мы видим, что есть очень важная вещь, которая по-прежнему нас объединяет — это русский язык. И он живет, и отвечает на эти самые вызовы, и прекрасно справляется с новыми ситуациями.
Максим Кронгауз
Язык – нереформируемая сущность
Когда шла дискуссия о матрице, было сделано много гражданских высказываний. А сегодня мои коллеги делают профессиональные высказывания. И я постараюсь держаться в этом русле, хотя тема меня будет все время подталкивать к гражданским выплескам; сейчас объясню почему. Но начну все-таки со страшилок. Лет 5-6 назад вице-премьер на встрече со студентами сказал, что народ устал от реформ. И хорошо бы, сказал он полушутя, слово «реформы» заменить на словосочетание «изменение к лучшему». Это совершенно оруэлловская ситуация, попытка манипулировать людьми с помощью слов, но язык не обманешь. Если бы мы заменили слово «реформы» на слова «изменения к лучшему», то я думаю, что через пару лет народ бы устал от изменений к лучшему. В этом смысле надо понимать, что сколько ни манипулируй народом с помощью языка, все равно решает не язык.
Главная страшилка, связанная с языком (ну, по крайней мере, одна из главных), это преследующая и меня, и моих коллег-лингвистов, как постоянно возобновляющийся кошмар, тема реформы русского языка. Все очень боятся реформы русского языка, при этом, что это такое, объяснить невозможно. Язык вообще, я сделаю резкое высказывание, нереформируемая сущность. Реформировать можно орфографию, пунктуацию, график, но не язык.
Но эта идея, что все-таки кто-то сейчас реформирует наш русский язык, Академия ли наук, власть ли в широком смысле слова, неважно, витает в воздухе. И реакция в средствах массовой информации алармическая. Например, однажды мне позвонили из некой газеты и спросили: а что, реформа происходит? Я говорю: в каком смысле, — уже более-менее привыкнув к этой идее. — Ну как, в словарь русского языка обещают ввести слова «блог» и «гламур». Можно ли введение в словарь тех или иных слов считать реформой чего бы то ни было? Эти слова, если посмотреть в Интернете, существуют в русском языке более десяти лет. Зафиксированы миллионы употреблений; что же тогда реформируется? Просто прижившиеся слова вводятся в словарь. Но идея, что язык будут реформировать, действительно преследует массовое сознание, рупором которого выступают наши медиа. Тем более, что попытки контроля над языком со стороны власти (еще раз подчеркиваю, власти в широком смысле слова) постоянно имеют место.
В прошлом году я принимал участие в довольно любопытном заседании Общества родного языка в городе Тарту, куда были приглашены представители разных балтийских государств, скандинавских — Финляндия и Швеция,; я был от России. Речь шла о развитии государственных языков этих стран. Местные докладчики выходили с книжечками; один экземпляр мне подарили мои эстонские коллеги, причем на русском языке, перевод с эстонского. Называется книжечка «Стратегия развития эстонского языка с 2004 по 2010 год», шестилетка. Выступления большинства эстонских коллег заключались в рассказах о том, как реализуется эта стратегия и что еще следует включить в будущую стратегию языка. Я выступал, к счастью для меня, последним, поэтому, выйдя на трибуну, позволил себе такое великорусское, если хотите, высказывание: «А у нас стратегии нет. Но зато она нам и не нужна. У нас и так все хорошо».
Разумеется, имел я в виду не то, что у нас все хорошо с языком, а то, что у нас нет тех проблем, которые есть у эстонского, латышского, финского, вроде бы вполне благополучных языков. Это проблема умирания языка. Умирания не в том смысле, что язык уходит, а в том отношении, что, так сказать, происходит омертвление некоторых его зон. Мы берем благополучные языки — финский, норвежский, и выясняется, что в некоторых сферах они не используются. Приведу пример из близкой мне научной сферы: и гуманитарии, и физики перестают писать статьи, книги на своем родном языке. Понятно почему: потому что физику нужны читатели, слависту тоже, а на норвежском читателей очень мало. Соответственно, все переходят на английский язык. Это хорошо для авторов, но плохо для языка, потому что в этой зоне исчезает терминология. Скажем, если через десять лет появится молодой физик, который захочет написать статью по-норвежски, он уже не справится с поставленной задачей, не будет соответствующих слов. Это не значит, что норвежскому языку грозит смерть. Но это значит, что некоторые зоны уже не используются и некоторые сферы для норвежского языка оказываются закрытыми. Такая угроза нависает над всеми «небольшими» и вполне благополучными государственными языками. Почему нам в России не нужна стратегия, в том смысле, о котором я сказал на заседании? Потому что у нас есть очень мощная инерция, благодаря которой русскому языку не только не грозит гибель, но и не грозит пока омертвление каких-то зон.
Русский язык по факту государственный, не только де-юре в определенный период, но и де-факто в течение нескольких веков. Конечно, сегодня мы имеем определенные проблемы, я чуть позже о них скажу, но инерция существования русского языка на нашем пространстве такова, что русский язык не испытывает этих проблем. Ученые продолжают писать по-русски, экономисты и политики продолжают использовать русский язык. Другое дело, что русский язык много заимствует, но это отдельная тема.
При этом власть все время с разных сторон подступается к языку с целью его регуляции, хотя чаще всего в документах используется слово «защита». Слово «защита» мне очень не нравится, потому что совершенно непонятно, от кого защищают русский язык. Тем не менее, это популярное слово — не только у нас; в стратегии развития эстонского языка оно тоже используется. Мне кажется, что, прежде всего, защищают русский язык от его носителей, от самих себя. Во вторую очередь, можно говорить о защите от английского языка, хотя это не вполне корректно.
Итак, приведу несколько примеров попыток взаимодействия власти с языком. Самый известный, своего рода компенсация за отсутствие у нас стратегии языкового развития, это закон «О государственном языке». Я участвовал в его обсуждении на разных этапах, чуть позже это прокомментирую. Вторая попытка из известных, довольно масштабная, это попытка выделить словари, нормативные для государственного языка. Она была предпринята в сентябре позапрошлого года и вызвала дикий скандал. Получили отклик и две мелких попытки; мелких, тем не менее, любопытных и важных. Ульяновский губернатор приказал своим сотрудникам в официальных документах использовать букву «ё». И совсем как бы мелкий факт, но, на самом деле, довольно важный — вброс Владиславом Сурковым словосочетания «суверенная демократия».
Понятно, что масштабы взаимодействия с языком в приведенных примерах очень разные. Каковы результаты?
Результат первый, закон «О государственном языке», ему в мае исполнится пять лет. Самое лучшее, что о нем можно сказать, это то, что он не работает. Другое дело, что он и не мог бы работать, потому что в нем заложены некоторые противоречия. Отчасти это связано с тем, что закон задумывался депутатами как некоторое политическое высказывание, но никак не лингвистическое, и даже не юридическое.
Результат второй — попытка ввести нормативные словари для государственного языка, для русского языка как государственного, обернулась медийной истерикой. Не знаю, помните ли вы этот скандал, он связан скорее даже не с четырьмя словарями, а со словами типа «йогурт-йогур», несколько «словарных» слов фигурировало, но громче всего звучало слово «кофе»: какое безобразие, разрешили средний род, кофе — оно. Не комментирую это словарное решение, комментирую только результат попытки. Вроде бы хорошее дело — ввести нормативные словари; совершенно разумное; окончилось провалом.
Третье — буква «ё». Понимаете, даже слово такое придумали — «ёфикация всей страны», писание буквы «ё» везде, где она нужна. Этому придается и некоторый патриотический смысл, что совсем уже абсурдно, потому что буква эта самая молодая в русском алфавите и делать ее главной патриотической буквой нелепо. А кроме того, прелесть и уникальность этой буквы как раз в том и заключена, что она факультативна. И как только мы ее начнем писать везде, что нам дастся довольно трудно, потому что нам придется переучиваться, пропадет ее уникальность, про нее можно будет забыть как про специальную букву. С «ё», конечно, есть проблемы, но они решаются не лингвистически, не таким способом, а законодательно. Надо просто разрешить, что в какой-то момент и было сделано, признать идентичность документов, написанных с ё и без ё, чтобы люди не мучились, если у них фамилия написана разным способом. И, наконец, про «суверенную демократию» вообще не буду говорить, здесь политики и люди, следящие за жизнью страны: кончилось тоже ничем, как вы понимаете.
Четыре попытки воздействия на язык со стороны власти (в разном понимании слова «власть») привели к провалу. Ну, из вежливости, могу ограничиться словом «неудача». Почему? Ведь вроде бы есть удачные попытки регулирования языка. Реформировать язык, повторяю, нельзя, но регулировать, воздействовать на него некоторым образом можно. Даже есть вроде бы успешный опыт такого рода, это советское государство, где на язык воздействовали целенаправленно. Но сегодня главная проблема, как мне кажется, состоит в том, что ни власть, ни лингвисты не реагируют на запросы общества. А запросы общества относительно языка существуют, и это довольно настоятельные запросы. В этом смысле стратегия была бы чрезвычайно полезна. Конечно, при условии, что она не будет писаться так, как писался закон «О государственном языке», чего гарантировать нельзя. Но в таком случае она будет абсолютно бесполезной.
Что должно было быть в этой стратегии? Ограничусь тремя, с моей точки зрения, основными пунктами.
Пункт первый: разработка терминологии. То, что делалось в эпоху «советского языка» очень активно; сегодня эта область потеряна. Это довольно скучная область, но, тем не менее, чрезвычайно важная, особенно учитывая количество заимствований из английского языка. Сегодня мы потеряли разницу (для лингвиста это звучит, может быть, более серьезно, но думаю, что и за пределами узкого профессионального круга меня поймут), — разницу между профессиональным жаргоном и профессиональной терминологией. Регулярное заимствование не всегда проясняет ситуацию. Это что, просто жаргон двух специалистов в этой узкой области, или уже термин, который мы заимствовали? Разработка терминологии, безусловно, вещь крайне важная.
Второе — то, о чем говорил Вячеслав Никонов, сегодня русский язык присутствует в других странах, причем существует там довольно активно. Русский язык государственный еще в одной стране — в Белоруссии. Хотя с каждой из стран бывших республик СССР у нас есть некоторые мелкие расхождения по поводу русского языка. С той же Белоруссией мы спорим о том, как называется это государство — Белоруссия или Белорусь. С Украиной мы спорим по поводу предлога «в» или «на» Украину, с Молдавией тоже по поводу названия государства. Но проблема гораздо глубже, чем эти мелкие лингво-политические споры. Она заключается том, что сегодня появилось много вариантов русского языка, эти варианты удаляются от «материнской» языковой платформы. В той же Эстонии, скажем, мне приводили какие-то специфические русские слова, которые там появились и активно используются. Слово «кандидировать»: можно понять, что оно значит, но его нет в «нашем», «общем» русском языке.
И здесь возникает вопрос: кто должен управлять, — нет, не вариантами, потому что варианты должны быть описаны лингвистами данной страны, — а литературным языком в целом? Например, для испаноязычных стран, для немецкоязычных стран существуют органы, объединяющих представителей разных государств, по крайней мере, тех, где этот язык государственный. Сегодня, скажем, легко представить ситуацию, что в Белоруссии выйдет словарь литературного русского языка, бытующего в Белоруссии, и он будет отличаться от нашего русского языка. Пока этого не происходит, но в принципе — возможно.
Последний вопрос бытования русского языка (может быть, самый важный) — сегодня существует огромный запрос со стороны общества, связанный с тем, как правильно. Мы во многом утеряли норму. Кто ее восстановит? Кто скажет, как правильно? К сожалению, ответа на этот вопрос у лингвиста нет. И здесь как раз стратегия развития русского языка могла бы сыграть огромную роль. Частично это все равно делается, потому что жизнь идет и без всяких стратегий, без всяких документов, но совершенно очевидно, что нам нужен некий единый универсальный словарь. Хорошо бы, чтобы он имелся в открытом доступе в Интернете, был пополняем и развивался в соответствии с развитием языка.
Нам необходима народная грамматика. Нельзя проверить правильность того или иного высказывания, той или иной конструкции, потому что у нас нет грамматики, которой может пользоваться непрофессионал. Для французского, английского, немецкого языков этот вопрос решен давно. Есть и словари в Интернете, есть и грамматики, которыми может пользоваться любой человек. Должна быть справочная служба русского языка; она есть в Институте русского языка, где люди могут получить ответ на вопрос, как правильно, но она должна быть и в Интернете — раньше такая возможность была на сайте «Грамота. ру», но по финансовым причинам закрылась. Все эти вопросы узкопрофессиональны, но имеют значение не для профессионалов, а для всего народа и для всей страны. Конечно, они должны быть решены, более того, они решаются и без специального документа вроде Стратегии, потому что понятно, что лингвисты все равно составляют словари, организуют сайты такого рода. Но, безусловно, разрыв между профессионалом и обществом должен быть преодолен. А он, к сожалению, пока существует.
Контекст: фрагменты дискуссии
Александр Музыкантский
— Начну с анекдотического примера. Мой давний знакомый стал химиком, кандидатом наук. Всю жизнь он жил в Харькове. Когда мы с ним встречались в 90-м году, он жаловался, что нет заказов, наука не нужна, народ уходит, а потом мы встретились в 92-м году, он говорит: грандиозный заказ, вся кафедра работает, денег немерено. Я спрашиваю: а что же вы делаете? — Мы переводим химическую терминологию на украинский язык. Деминил, дефитил, тритоксин — все это они переводили на украинский. На это дело у них ушло года два и кончилось ничем. Не прижилось. Анекдот анекдотом, а я вот о чем хочу сказать: очень хорошее сообщение о том, что с русским языком происходит в странах ближнего и дальнего зарубежья, во всем мире. Мы поддерживаем всячески развитие русского языка за рубежом. Но у меня убеждение, что главная-то борьба за сохранение, развитие, увеличение числа носителей и пользователей русского языка все-таки здесь, у нас в России, а не за рубежом. А что в России происходит?
1999 год. Юбилей Пушкина, вы помните, 200 лет со дня рождения, накануне объявили: мы издаем новое полное собрание сочинений, потому что собрание сочинений единственное полное академическое начато было в 1937 году, прошло уже столько лет, много новых находок, необходимы полноценные комментарии. Сейчас 2011-й. Вышло два тома из 30 объявленных. Это означает, что нынешнее поколение русских людей, включая тех студентов, которые здесь присутствуют в качестве стажеров, наблюдателей, помощников, нового академического собрания сочинений Пушкина иметь не будет. Выйдет ли оно вообще, тоже непонятно. Вопрос даже не в деньгах, а в том, что его некому готовить, нет специалистов, они перевелись. Такое же отношение к Гоголю, Тургеневу, Толстому; даже если выходят полные собрания сочинений, то тираж — одна тысяча экземпляров. К юбилею Гоголя объявили о новом издании полного собрания сочинений, но это затея с негодными средствами, потому что, кажется, уже умерла та единственная старушка, которая умела разбирать почерк Гоголя. Все. Больше этим некому заниматься.
Такие издания, как «Литпамятники», «Литературное наследство», которые и делают язык языком, дают академический фундамент, базис, являются несущей конструкцией литературного языка. Но они сегодня дышат на ладан. Точно такая же ситуация с переводами и на русский язык с разных языков европейских и прочих. Что получается? Некоторые с великой русской культурой связывают возможности влияния России в мире: она является центром притяжения, основой, которая позволит объединить, привлечь… но меня не покидает ощущение, что если так дело пойдет, то очень быстро эта великая русская литература, русская культура станет мемориальной, в мировом континууме она займет такое же место, которое занимает великая античная или византийская культура. Просто никто ее не будет связывать с этой территорией.
Вячеслав Никонов
— Кстати, в связи с введением в вузах такого критерия оценки работы, как количество публикаций в зарубежных ведущих изданиях, я думаю, большое количество российских ученых начнет писать свои труды на английском языке и будет из русской науки уходить. Во всяком случае, публикации зарубежные сейчас дают гораздо больше в оценке труда преподавателей факультетов, в том же Московском университете, чем публикации внутри страны.
Валерий Тишков
— В Академии наук я возглавляю секцию истории, а не филологии, но секция наша входит в отделение историко-филологических наук, так что данная проблема в каком-то смысле и мой «профиль». Безусловно, язык — это важнейшее средство коммуникации, он был и остается системой, через которую люди осуществляют свои базовые потребности, причем не только на уровне микроколлективов, но и на уровне самых крупных социальных коалиций, таких как государственное образование. И пока на горизонте исторической эволюции ничего более мощного не предвидится, кроме как государственное образование. Конечно, государство и государственная бюрократия стараются говорить на одном языке — инструкции, армия, законы, особенно армейские приказы, технические инструкции должны пониматься в государстве всеми одинаково. Поэтому государства всегда проявляли интерес к языку, отсюда родилось понятие государственного языка, официального языка (особой разницы здесь, честно говоря, не вижу; невнятный термин «официальный язык» с его размытым статусом появился, чтобы как-то смягчить факт отказа в государственном статусе русскому языку в некоторых странах СНГ). Отсюда же понятие «русский язык как язык межнационального общения». Но это ничто с точки зрения и научной, и политической.
Не нужно отказывать государству в праве вмешиваться в эти дела; есть примеры успешного решения вопроса. Например, закон в Канаде от 1968 года об официальном двуязычии фактически спас ситуацию и даже страну от распада. Миллиард долларов был затрачен на то, чтобы обучить всю канадскую бюрократию, ан-глофонов, французскому языку; асимметрия все равно осталась, есть очевидный перекос в пользу английского, но страна заговорила на двух языках. И сохранилась на политической карте мира. В любой точке Канады вы поднимете трубку, и государственные службы вам обязаны ответить на английском или французском языке (кроме частного бизнеса). Закон о французском языке во Франции также, безусловно, сыграл свою роль и продолжает ее играть, хотя французские ученые нарушают его, и на зарубежных симпозиумах говорят не только на французском, но и на других, в том числе русском. Но закон этот есть.
У нас закон не очень сильный, нуждается в доработке, я с этим согласен. Но вот встает вопрос: а кто же теперь будет выполнять нормативную функцию, потому что понятие нормативности сохраняется. Есть, скажем, понятие «французский язык в Канаде»; в бытовом обиходе у него презрительная кличка «жоаль», язык плохой, крестьянский, примитивный. Но тем не менее это стандартизованный для нужд Канады французский язык. Существуют (и нам нужно об этом тоже думать) центры и комиссии, подводящие под общую основу испанский и арабский языки, хотя все равно мы не можем сказать, что существует единый, всеобщий арабский или испанский язык. Безусловно, испанский язык в Испании и в странах Латинской Америки — это языковые варианты, к чему все относятся спокойно, потому что понимают, что языковой ригоризм ни к чему не ведет. Нам пока далеко до этого идеала; я помню, как Вербицкая очень жестко и возмущенно говорила о том, что не может быть «в Украине», только «на Украине»! Но я, например, чувствую себя вполне комфортно, когда говорю о периоде до распада СССР «на Украине», когда говорю о независимом государстве — «в Украине», и ничего от этого не убывает. Во время недавней поездки в Киргизию я, будучи этнографом, спокойно употреблял слово «кыргызы», и ничего с моим русским языком не случилось. Другое дело, что внутри «киргизского мира» есть осмысленное противопоставление слов «киргизы» и «кыргызы»; первые — настроенные прорусски, вторые более этнонационалистичны.
Второе — кто владеет языком, у кого права собственности на русский язык в нашей стране? Конечно, языковой репертуар сегодня меняется. Мы говорим: родной язык, но с точки зрения науки у современного человека может быть два родных языка, не обязательно один. Понятие «двуязычие» и «многоязычие» сегодня скорее мировая норма, поэтому мы должны понимать, что добровольная ассимиляция в пользу русского языка нерусских народов, а она уже давным-давно произошла в нашей стране, это вполне нормальный процесс. Кстати, это «родительская» стратегия, хотя некоторые этнические активисты или ученые могут сетовать, что язык вымирает, но тем не менее более мощный язык всегда предоставляет больше средств для модернизации.
Так что русский язык в нашей стране — это собственность всего российского народа и, конечно, мощное средство модернизации. Русский язык принадлежит к так называемой категории группеtop languages,это мировые языки. Здесь играет роль не количество носителей — у китайского языка носителей больше, но он не принадлежит пока к этой категории. А то, что существует мировая литература и мировой культурный репертуар, созданный на русском языке, без которого сегодня образованный человек, где бы в мире он ни жил, не может считаться образованным. Это важнейшее достоинство русского языка.
И последнее. Мы сейчас в Академии наук начали программу «Корпусная лингвистика», и с русским языком, я склонен согласиться с сегодняшним докладчиком, ситуация не такая уж плохая: полный корпус русского языка создается, он уже существует в интернете. Поэтому я думаю, что совместными усилиями та тенденция к отказу от русского языка на сопредельном пространстве, о которой говорил Вячеслав Алексеевич Никонов, переломлена, в самые последние годы произошел поворот к лучшему. Безусловно, в постсоветском пространстве русский язык будет отвоевывать временно утраченные позиции, хотя гарантий этому нет, нужны особые, специальные усилия и большие финансовые ресурсы. Язык — это тоже и деньги.
Игорь Милославский
— Мы должны четко различать две вещи, два явления: с одной стороны — русский язык как родной, а с другой стороны, русский язык для тех, кто его изучает как неродной. Если в первом случае совершенно ясным критерием является количественная характеристика, то во втором случае критерий совершенно другой, связанный с качественным состоянием русского языка. К сожалению, благодаря традициям нашей средней школы у нас существует довольно ложное представление в обществе о том, что такое качество русского языка. Если я не делаю орфографических и пунктуационных ошибок, значит, я владею русским языком, качество моего языка хорошее. А на самом деле все обстоит иначе. Главный критерий в этом случае — способность языка отражать ту реальность, которая стоит за словами.
Имея в виду необходимое разделение двух этих обстоятельств, я бы хотел напомнить еще об одной вещи, тоже фундаментального характера. Язык всегда является делом вторичным. Он идет за явлениями жизни, и состояние русского языка в мире, количество изучающих, знающих русский язык — это прямая функция от позиции соответствующей страны, ее культуры, престижа, влияния в мире. И никогда наоборот. Я думаю, что все согласятся с тем, что язык какой-нибудь африканской страны никогда не привлечет большое количество людей, желающих его изучать. И те количественные изменения, которые происходят сейчас с русским языком, — это отражение не очень радостного обстоятельства, которое связано с престижем нашей страны в мире. Это очевидная, объективная вещь. То же самое касается и внутренней ситуации, внутреннего употребления русского языка. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что те замечательные изменения, о которых Ирина Борисовна Левонтина, в частности, говорила, носят довольно частный характер. А когда мы анализируем то, как русский язык употребляется в современном дискурсе, мы видим, что здесь очень много проблем.
Ограничусь только одним примером, который касается нашей вчерашней дискуссии: самым употребительным словом было «матрица». Что — уважаемые коллеги, я не посягаю на компетенцию социологов, — лежит за этим словом? Думаю, никто внятно на этот вопрос ответить не может. Это вопрос очень тяжелый, неясный, а тем не менее все говорят: «матрица, матрица», что за этим стоит — каждый понимает по-своему или, я скажу немного резко, может быть, даже вообще не понимает. Отчего это происходит? Оттого, что сказать «традиция» — это значит дать положительный оценочный компонент, так привыкли поступать, и это хорошо. Сказать «предрассудок» или «пережиток», и так мы привыкли поступать, и это плохо, поэтому надо сказать как-то нейтрально. А как? Матрица — хорошо ли? Не думаю, что хорошо. Люди, которые имеют естественно-научное образование и занимаются высшей алгеброй, тоже скажут, что «матрица» сюда не очень подходит. И таких примеров привести можно очень много.
Язык как живой организм сохраняет энергию того выдающегося прорыва, который был совершен во времена Пушкина; он эволюционирует, развивается, решает современные задачи. Но поддержки со стороны властей, я более того скажу, со стороны интеллигенции, практически нет. Ведь в пушкинские времена существовала Российская академия наук, которая занималась исключительно созданием словарей и грамматик, общество было ориентировано на то, чтобы сделать язык адекватным тем потребностям, которые у него существуют. У нас ничего подобного нет.
Андрей Климов
— В заголовке раздела значится: «Русский язык как следствие модернизации». Я привык к тому, что сначала было слово, по крайней мере так в Библии написано, и был очень удивлен, что сначала была модернизация, а потом, как следствие, возник русский язык. Очевидно, это от недостатка моих знаний русского языка и логики. Тем не менее, если говорить о русском языке в контексте внешней политики, то здесь возникает несколько простых вопросов: для чего нам продвигать русский язык? Из соображений престижа, удобства, как мягкую силу или как какой-то еще дополнительный фактор? Мне кажется, что это один из элементов сохранения русской цивилизации, которая существует не только в границах Российской Федерации, и без языка ее сохранение будет под вопросом. В данном случае задача становится более серьезной, чем просто решение каких-то тактических проблем.
Здесь много безрадостного, но есть и элементы, которые нам надо максимально использовать. Не так давно, в мае прошлого года, в Африке собралось сорок министров экономического развития этих стран, примерно половина из них между собой общалась на русском языке. Это серьезная аргументация для того, чтобы нам не только не терять, но и каким-то образом использовать данный фактор.
Европейский союз. В здании Европейского парламента примерно треть депутатов, по моим наблюдениям, свободно говорит на русском языке и использует его для общения даже тогда, когда встречаются три русофоба, один из Эстонии, другой из Венгрии, третий с Балкан. Между собой они говорят по-русски, потому что один лучше знает как иностранный английский, другой как иностранный немецкий, а третий — французский. И они на русском языке обсуждают, как с нами, с проклятыми, разобраться и как изжить этот русский язык. Я сам слышал такой разговор у лифта.
Само по себе все это не будет развиваться, поэтому у меня есть несколько конструктивных предложений, в том числе тема, которая многим кажется нереальной, но, на мой взгляд, она не противоречит законам физики — попытаться сделать русский язык официальным языком Европейского союза. Для этого есть определенные предпосылки, надо только внимательно почитать их законодательство, оно сегодня таково, что позволяет, мне кажется, при определенных усилиях этим воспользоваться. А если нет, то как они предлагают нам кое-что поменять в своем законодательстве, так и у нас есть возможности кое-что попытаться поменять в их законодательстве. Без таких, извините за выражение, амбициозных задач нам, конечно, будет сложно продвигаться, потому что никакие деньги не заменят некоторых нормативных решений, которые, если мы говорим о Европейском союзе, просто необходимы.
Владимир Рубанов
— Три ключевых понятия: картина мира, сфера применения языка и модернизация. По поводу картины мира я бы хотел напомнить, что есть универсальный язык, которым является язык математики; какое он имеет отношение к русскому языку? Сейчас математика уходит в область топологии, и все последние премии в области математики принадлежат русским ученым — это Перельман, Громов, Семенов, мировым лидером в этой области был недавно ушедший от нас академик Арнольд, сейчас ученый с мировым именем работает в Высшей школе экономики, академик Васильев. В той картине мира, которая создается для международного научного сообщества, россияне занимают центровое место и определяют тренд первой моды. Вопрос заключается в том, каким образом эту научную потенцию использовать для распространения русского языка в более широком контексте.
Второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание в связи с понятием языка — это информационные технологии. Здесь упоминалась фамилия Людмилы Вербицкой; а есть ее «почти однофамилица» Анна Вержбицкая, чей термин «семантическая интероперабельность информационных систем» является ключевым для развития информационных технологий. Проблема смыслового понимания между человеком и машиной, между машинами. Здесь у нас не самые плохие результаты, у нас есть свое слово, сами понимаете, это глобальное распространение для русского языка.
Здесь звучало и выражение «корпус русского языка». У меня есть записка для фонда «Сколково» от академика Вяч. Вс. Иванова, который сегодня в основном проживает в Лос-Анджелесе. Он предлагает создать Корпус русского языка, чтобы, во-первых, решать лингвистические задачи, которые и в нашей дискуссии были обозначены, и чтобы, во-вторых, одновременно включить его в развитие информационных систем.
И последнее, на что я хотел бы обратить внимание: мы ошибочно считаем, что только реальность формирует язык. Я хотел бы сказать, что язык тоже формирует реальность; каким языком мы говорим, такова будет и реальность. На самом деле люди, которые занимаются техникой, прекрасно понимают силу языка. Взаимодействие гуманитариев и технарей, особенно в связи с модернизацией, имеет принципиальное значение, язык по мере интенсификации технологий приобретает ключевое значение. Здесь стоял вопрос о том, чтобы в Европе сделать русский язык одним из языков общения, я хотел бы обратить внимание на другую проблему. Все документы, которые представляются в Сколково российскими участниками, должны быть переведены на английский язык. Такого требования для иностранных участников не указано. Сделать в рамках Сколково русский язык официальным — это тоже канал распространения русского языка.
Евгений Кожокин
— Внешняя политика без продвижения собственного языка, без продвижения собственной культуры — это политика, не соответствующая вызовам данного момента.
Хотел бы привести два маленьких примера: казармы в Нагорном Карабахе, на стене висят уставы на русском языке. Я спрашиваю у командира батальона: «Почему на русском языке? Тут нет ни одного русского!». Он говорит: «Нас вполне устраивают эти уставы, мы по ним выигрываем войны». Второй пример, другого рода. Мой товарищ, который 30 лет писал книгу о средневековой Франции XI-XIII веков, издал прекрасное фундаментальное исследование на данную тему, привез его во Францию, ему говорят: слушай, почему ты написал на русском языке? Кому это нужно, никто же не прочитает! И эта проблема, о которой Максим Анисимович Кронгауз говорил: омертвление сфер. Русский язык начинают вытеснять из сферы науки. Есть наша внутренняя, сугубо интеллигентская практика, на которую обратила внимание американка, которая долго находилась в Москве и занималась выдачей грантов. Она сказала: русские ученые очень не любят цитировать друг друга. Они цитируют или умерших ученых, или зарубежных.
Дальше я хотел бы сказать о некоторых институциональных проблемах функционирования русского языка. На сегодняшний день есть две большие организации, которые занимаются продвижением русского языка за рубежом. Это фонд «Русский мир», который возглавляет Вячеслав Алексеевич Никонов, и организация, в которой я работал в статусе заместителя руководителя, а по функционалу я был там «городским сумасшедшим». Это «Россотрудничество». Почему я оказался в роли городского сумасшедшего? Мне казалось, что нужно выискивать возможности продвигать наших известных ученых, которые будут привлекать внимание к русскому языку благодаря своему интеллектуальному потенциалу, потому что они умеют красиво и интересно говорить, пишут книги, которые нужно читать. В качестве эксперимента я (не с помощью «Россотрудничества», а с помощью Швыдкого, с помощью друзей, которые помогли найти деньги), сделал в Киеве презентацию книги Алексея Лидова с запредельным названием: «Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств». На презентацию этой книги в Русский культурный центр пришли люди из числа националистов, которые принципиально никогда не говорят по-русски. И для них Центр русской культуры — это что-то запредельное. Лучше трижды прийти в Лэнгли и пять раз там сдаться, чем зайти в этот центр. Они пришли, потому что им это интересно, это связано с их культурой, с их истоками.
Дальше эксперимент был продолжен. Когда предложили сделать презентацию этой книги в Ереване, они сказали: какой Русской культурный центр? Он маленький, давайте сделаем в нашей самой крупной библиотеке. Потом сказали: нет, не надо в библиотеке, давайте в зале президиума Академии наук. А дальше мы провели презентацию этой книги в городе Тбилиси. Это был 2009 год, после войны 2008-го. Ни Саакашвили, никто это не запретил. Это проходило в Русском драматическом театре, была пресса, у Лидова брали интервью. Мы с Максимом Анисимовичем Кронгаузом обсуждали идею провести семинар в Праге под названием «Пражский лингвистический кружок и современная социолингвистика». Но «Россотрудничество» и в случае с Лидо-вым, и в случае с Кронгаузом занимало одну и ту же запретительную позицию: а почему мы должны деньги на каких-то «ие-ротопистов» и лингвистов отпускать?
Вот в чем проблема — наше чиновничество тормозит гуманитарные процессы, имеющие политическое значение. Потому что когда государство ставит задачу мотивировать на возвращение российских ученых, уехавших за рубеж, а это поручается человеку, который, будучи депутатом Государственной думы, подписывал антисемитские письма, то провал гарантирован. Он приезжает, допустим, в Нью-Йорк и говорит: вы к нам возвращайтесь, хорошо у нас поработаете, у нас прекрасные условия. Да-да, думают ученые, глядя на него, прямо сейчас и поедем. Этот человек деньги заработал, возглавляя ЧОПы в 1990-е годы. Кто здесь есть из бизнеса, могут дать свои комментарии в кулуарах, что значит ЧОП в 1990-е годы. Вот такой «агитатор» привлекает российских ученых.
Леонид Григорьев
— Не вполне соглашусь с докладчиком насчет перехода научной сферы на английский и бедственных последствий для русского языка. Это чаще всего происходит не по злой воле, а в силу необходимости. В экономической науке в советские времена, по естественным печальным причинам, мы не успели сформировать второй, третий, пятый уровни детальной терминологии. Экономические статьи очень трудно переводить и с английского на русский, и с русского на английский; впрочем, второе значительно легче. Дело даже не в формальных вещах, а просто в детализации и в применении — «норма прибыли» имеет в английском языке бесконечное количество вариаций. А у нас «норма прибыли», и все тут. Правда, у нас еще есть «стоимость» от Маркса, но это не помогает.
Второе — давайте все-таки наметим какой-то психологический рубеж, который мы обороняем. Думаю, мы не боремся больше с английским языком в мировой коммерции и информации, скажу больше: страны, которые при проведении реформ переходили к быстрому росту в 80-х годах, скажем, Ирландия, колоссально выиграли на том, что у них вся документация и все коммерческие документы были на английском, они не стали заморачиваться с ирландским языковым национализмом. Казахи убивают свой экономический рост, переводя документацию с русского, из жлобских, прямо скажем, соображений, на казахский, лучше бы на английский перевели. Для русских было бы лучше.
Самое главное, мне кажется, это проблема не как, а о чем мы пишем. Чуть что, мы опять съезжаем к великой русской литературе. Но кто у нас был последними классиками? Булгаков, Бунин, Куприн. То есть середина XX века в лучшем случае. Мы будем так в XXI веке паразитировать на русской литературе, на Дягилеве? Будем приезжать в Париж: здрасьте, мы от Дягилева! Надо сохранить то, что было, не спорю, но вопрос: пишем ли мы что-нибудь интересное на русском языке сейчас? На чем выросла великая русская литература? Она выросла на конфликте интеллигентного индивидуума, находящегося в жестком конфликте с жесткой государственной, церковной и прочей средой, на конфликте личности и системы. Если мы сейчас собираемся писать гениальные вещи, то для кого мы собираемся писать? Ведь русский язык мы не протащим в мир как государственный. Давайте сознавать, что русская диаспора и русскоязычные (за исключением какого-то количества африканских и прочих стран, где выходцы из России близки к власти), тот миллион успешных «сверхновых русских», которые замечательно устроились и в Америке, и в Европе: экономисты, огромное количество инженеров, биологи, администраторы. Это образованные люди, мы им должны что-то дать на русском: то, что им интересно. Если мы ничего интересного не напишем, тогда будем вместе читать Гоголя. Всегда. «Вий» очень хорошо помогает.
Напомню одно: есть положительные вещи, на которые надо опираться. В 1990-х годах русские в международных аэропортах друг друга стеснялись, не разговаривали, только последние четыре-пять лет начали разговаривать. Надо подхватывать этот тренд и закреплять наше общение, прежде всего с диаспорой; кстати, они российские граждане, но они отрываются, смотрят на происходящие здесь политические и социальные события через западную прессу, и есть языковой критический момент, в который вы обязательно опознаете человека, оторвавшегося от родины. Он тебе говорит не: «Что там у нас происходит?», а: «Что вы там, не можете по-человечески сделать?». Как только он говорит не «у нас», а «у вас», значит, этот перелом пошел. Мы должны понимать, что имеем дело с миллионами людей, кстати, состоятельных, с деньгами, в состоянии купить, в состоянии разговаривать, но они должны говорить «нас», а не «вас».
И последнее. В Скандинавии есть проблема с Исландией, как у нас с Украиной. Исландцы хотят, чтобы говорили: «в Исландию», а скандинавы говорят: «на Исландию», и те обижаются.
Александр Архангельский
— Сначала несколько попутных замечаний. Ну разумеется, сегодняшний русский литературный язык является следствием модернизации. Пушкинское поколение произвело такую модернизацию языка, которая работает до сих пор. Конечно, они такую задачу рационально не формулировали. Они добивались иной, более важной и масштабной цели: стать вровень с европейской (которая тогда была синонимом мировой) культурой. И следствием решения этой великой задачи, не амбициозной, подчеркиваю, а именно великой, стала языковая модернизация. А следствием языковой модернизации стало само сохранение русского языка как живого явления, не только потому, что он государственный, но потому, что он творчески развивающийся. Русский литературный язык прошел через советские фильтры, что-то взял из советского опыта, что-то, когда ушла советская власть, отбросил, но он продолжает жить и развиваться. Если и есть в России примеры успешной модернизации, помимо русского флота и Академии наук, так это как раз русский язык.
Вернусь к мысли о том, что нужны великие замыслы, частным следствием которых является модернизация. Не модернизация как задача, а модернизация как следствие более важных цивилизационных задач. Георгий Бовт размышлял о том, что нужны иррациональные, не обсчитываемые задачи, не потому, что это выгодно сию секунду, а потому, что мы хотим стать иными, мы хотим развиваться. Когда так ставится задача, она решается, в противном случае — нет, никогда. Та же советская власть хотела, чтобы Советский Союз присутствовал не только идеологически, но и «языково» во всем мире. Я никогда не забуду сцену середины 90-х годов: в берлинском метро поздним вечером, когда нормальные немцы уже спят, часов в 11 вечера, в пустом вагоне еду я, напротив — араб и негр. Араб молоденький, негр постарше. Негр говорит: «Мама харосий, маму надо слюсаться», с явным лумумбовским акцентом. Это языковое следствие советского проекта: их никто не заставлял в Берлине говорить по-русски.
Кроме того, не надо забывать, что в ближайшие годы произойдет очередная технологическая революция в мире медиа. Совершенно ясно, что рынки переформатируются, извините за такое не очень русское слово, и шансов для малых языков на этом глобализирующемся рынке просто-напросто нет. Поскольку тип производства изменится, оно станет интернациональным, и распространение сигнала не будет ограничиваться национальными границами, всем придется выбирать, в какой языковой зоне ты работаешь. Нерентабельно станет производство литовских, чешских, даже, боюсь, польских программ. Следовательно, появится несколько глобальных языковых групп, которые будут претендовать на то, чтобы втягивать в себя все производственные потоки. Понятно, что первая по степени распространения в мире — испанская, вторая английская, рядом китайская и португальская, и дальше французы, мы, немцы. Мы на грани. Мы можем попасть в эту втягивающую группу, использовать русский язык как фактор мирового медийного производства и затянуть в нее, как в воронку, страны Балтии, некоторую часть славянских стран, кого-то еще.
Более того, мы уже сейчас наблюдаем важные перемены. В той же Польше, уж казалось бы, не пророссийски настроенной, самый популярный, востребованный из подписных спутниковых каналов — «Война и мир». Это канал советских, русских фильмов, где идут польские субтитры, но звучит русская речь. И причина не в ностальгии, я хочу подчеркнуть, старшего поколения, а в осознанном выборе нового поколения. Больше того, в Польше иногда происходит конфликт молодых родителей с пожилыми и среднего возраста директорами школ. Директора школ — это наше поколение, чуть старше, те, которые ненавидят Советский Союз, по вполне понятным причинам, и не хотят, чтобы русский язык изучался. Тридцати-сорокалетние родители, которые прагматически мыслят, заставляют через суды вводить изучение русского языка в школах, потому что это их детям выгодно.
Виталий Третьяков
— Как жаль, что я слишком поздно дошел до понимания того, что есть политический смысл существования языка. (Кстати, я не думаю, что все так оптимистично. Вы, уважаемые лингвисты, конечно, что-то от нас скрываете, как будто вы единственные герои нашего времени. Но я не буду этого касаться.) Если бы я раньше это знал, то вовремя предсказал бы крах политики М.С. Горбачева и распад страны. Потому что слова «перестройка», «гласность» придуманы не Горбачевым; они появились в политическом обиходе после реформ Александра II, потом ушли из него и вернулись в текстах начала XX века. За чем последовал крах всех этих реформ и распад страны. А сейчас мы присутствуем при четвертом возвращении этого словесного набора, за которым стоит политическая практика, гарантирующая катастрофу.
Так вот, лингвопрогнозы — реальность, их можно и нужно делать. Вы, уважаемые лингвисты, сидите за золотой жиле в буквальном смысле слова, не говоря уже о научном. Кто-нибудь исследует процесс появления и исчезновения значимых, знаковых слов в связи с историческими циклами и политическими катаклизмами? Это первый мой вопрос.
Второй мой вопрос. А есть ли написанные лингвополитические портреты Горбачева, Путина, Медведева, Ельцина, Брежнева, Ленина, Сталина? Кто-нибудь этим занимается? Или лингвополитические портреты партий нынешних, в том числе российских, стран — России, СССР и т.д.? Если можете назвать такие-то имена, тексты?
Алексей Малашенко
— Дополнение к выступлению Виталия Третьякова. Стихотворение о гласности XIX века. Поэт Василий Курочкин:
Эпоха гласности настала,
Кругом прогресс, но между тем
Блажен, кто рассуждает мало
И кто не думает совсем.
Юрий Кобаладзе
— После выступления Ирины Борисовны Левонтиной очень страшно говорить, потому что ляпнешь какое-нибудь слово старорежимное, и тебя обвинят в том, что ты ветеран холодной войны и вообще ретроград. На самом деле у меня одно заявление для Караганова, ответ Кожокину и вопрос Никонову. Я считаю, что мы избрали потрясающе интересную тему для нынешней ассамблеи, вопреки мнению некоторых товарищей. Я представляю, как бы мы умирали со скуки, если бы обсуждали навязываемую тему «Итоги промежуточных выборов в США» или «Бомбардировка Ливии». А так у нас потрясающе интересная дискуссия, были потрясающе вчера интересные выступления Дондурея, Быкова, Архангельского, и сегодняшняя сессия говорит о том, что мы на правильном пути, и вовсе это не ущемляет внешнюю и оборонную политику.
Теперь ответ Кожокину. Слава Богу, что вы собрали для такой интересной дискуссии, как иеротопия, Тбилисский драматический театр имени Грибоедова. Но на самом деле что сделала Россия для того, чтобы русский язык сохранить в Грузии? Ввела визовый режим? Отменила прямые рейсы, закрыла для молодежи грузинской Россию как страну? Не дала ни одного учебника русского языка для все еще существующих русских школ? Что же мы ожидаем в ответ?
И вопрос Никонову, поскольку все-таки осталась еще маленькая прослойка вымирающей грузинской интеллигенции, которая цитирует Пушкина и Маяковского. Может быть, есть какой-то план действий? Может быть, можно хоть что-то сделать? Русский язык в Грузии уже не спасешь, к сожалению. Но хотя бы чуть-чуть его сохранить на 10-15 лет, пока я жив. Чтобы я приезжал в Тбилиси и мог с кем-то говорить на русском языке.
Вячеслав Никонов
— Ни в одной стране, включая Белоруссию, нельзя использовать учебники, изданные у нас. Программы по поддержке русского языка в Грузии у нас есть, пусть небольшие, но есть. Большие там невозможно делать. В Армении сейчас обратная ситуация. Там действительно сначала закрыли все русские школы, Тер-Петросян это сделал, но последние сдвиги во внутренней политике Армении меня наводят на очень оптимистический лад. Во всяком случае, уже Серж Саргсян издал постановление, что без знания русского языка просто не принимают в высшие учебные заведения. Это огромный был шаг вперед. Потому что если в Ереванском госуниверситете русский язык в 1990-е годы изучался только филологами, то сейчас он изучается на всех факультетах. Плюс опять разрешили открывать русские школы. Но когда я этого добивался, мне доказывали, что этого нельзя делать по социальным причинам, поскольку туда запишутся только дети начальства, и это будет вызывать социальный протест против русского языка, России и так далее. Но тем не менее процесс идет. Однако ситуация везде очень разная.
Александр Мордовин
— Именно потому, что мы — Совет по внешней оборонной политике, мы говорим о мировом влиянии и внутреннем распространении русского литературного и научного языка. Но мы сейчас имеем очень жесткое расслоение и языка как «матрицы» культуры, и культуры как таковой. Есть языковой слой, которым пользуемся все мы, и есть другой слой, которым пользуется основная масса населения и который усиленно транслируется через СМИ, особенно через телевидение. Количество мата на человекодушу превышает все разумные пределы. Матом разговаривают девчонки 11-12 лет свободно, без проблем, без замечаний. Я начал свою военную службу в 11 лет в Суворовском училище. 12 лет провел в казарме среди пацанов и взрослых мужиков. Потом почти 10 лет — летчик-инструктор. И уволился генералом, проходя всю эту службу среди мужчин, пользующихся в том числе ненормативной лексикой. Но в таком количестве и в таком выражении понятийном я его не слышал никогда. Словарный запас — примерно как в анекдоте: пять слов, из них три матом и два союза. Поэтому, может быть, мы тоже когда-нибудь обратимся к этому вопросу, чтобы русский язык не постигла участь латинского.
Анатолий Вишневский
— Еще раз употреблю слово «вызов». Есть очень серьезный вызов русскому языку со стороны иммиграции в Россию, которая будет все время нарастать и которая состоит в основном из иноязычных людей. И проблема интеграции мигрантов будет одной из важнейших политических, внутриполитических задач, а языковая интеграция — это ядро общей интеграции. Уже сейчас раздаются жалобы и учителей, и детей, и родителей, что сложно учиться в младших классах, особенно с детьми, которые не знают или плохо знают русский язык. Тут нужны какие-то упреждающие действия, деньги, административно-политические решения и т.д. Но этим необходимо заниматься, выстраивая целую систему предварительной подготовки детей, организуя массовые курсы для взрослых. Все это очень серьезно, потому что можно много сделать для распространения русского языка за рубежом, но здесь он окажется в обороне и в очень сложных условиях.
Михаил Шмаков
— Интерес к русскому языку возобновился во всех республиках Советского Союза; мы три года проводим специальную программу, делаем профсоюзные семинары в России, и одной из подсистем или подзадач этих семинаров является борьба за то, чтобы не забывался русский язык. Что востребовано не только в Белоруссии, на Украине, в Молдове, но и в республиках Средней Азии, и в странах Балтии. Между прочим, наши коллеги из Балтии с каждым годом все больше и больше просят увеличить количество семинаров для них, чтобы приезжать сюда, в Москву, в Академию труда к Евгению Кожокину, в Санкт-Петербург. Болгария в этом году присоединяется и хочет иметь такие же семинары на русском языке. Русский язык на сегодняшний день — официальный язык Международной конфедерации профсоюзов. И многие наши коллеги, в том числе болгары, некоторые поляки, переключаются с английского на русский перевод конференций Всеевропейского регионального союза профсоюзов. Я не говорю уже про объединение профсоюзов СНГ, которое называется Всеобщая конфедерация профсоюзов.
Дальше. Я лично сталкивался с тем, что молодежь, в том числе дети крупных функционеров и бизнесменов, общественных деятелей в Западной Европе, изучают русский язык, объясняя это тем, что Россия — такая страна, куда можно приехать и заработать. Конечно, некоторые учат китайский. Но пока все-таки русский ближе к европейской культуре. Александр Архангельский говорил о Польше. Я могу только подтвердить то, что он сказал. Действительно, в Польше многие мои коллеги, и просто многие люди изучают русский язык для того, чтобы получить работу в России со временем. Причем квалифицированную работу. Говоря о трудовой миграции, нам нужна такая миграция квалифицированных кадров, которые заранее учат русский язык, а не просто миграция, когда мигранты сюда приезжают, а дальше нанимают репетиторов. Они могут только копать и не копать. Да, они ставят на своих детей, когда они здесь выучатся, пойдут дальше и так далее. Но сейчас нам приходится иметь дело именно с ними.
Максим Кронгауз
— Отвечу на конкретные вопросы по поводу работ о политических портретах и о возвращении понятий.
Такие работы, безусловно, есть, и проводятся даже конференции. В частности, конференция о проблеме ключевых политических понятий недавно проводилась у нас в университете — в РГГУ. Это отдельная тема, довольно интересная — вопрос о том, как, в какие моменты и по каким причинам те или иные понятия входят в обиход, выходят из него, возвращаются, развиваются. Я, правда, не думаю, что так все фатально, как вы говорите, и что если слово 200 лет назад потерпело крах, то обязательно потерпит крах сегодня. Бывают другие контексты и другие пути развития.
Но вот что важно. Есть лингвисты-теоретики, которые эти явления описывают и исследуют, а есть практики-прикладники. У лингвистов-теоретиков, которые описывают языковые портреты, самый популярный объект исследования, конечно, Сталин. В частности, у меня был стажер из Японии, защитивший позднее докторскую диссертацию по языку Сталина. Поскольку язык Сталина описан лучше всех, постольку системно выявлялись разные источники воздействия на язык Сталина: и литература, и его ранние занятия в семинарии; была даже такая красивая идея, что язык Зощенко — это фактически доведенный до края язык Сталина; я просто сейчас не готов ее обсуждать подробно.
Но есть и практики, которые формируют язык современных политиков. Их имена нам не известны. Но я думаю, что у наших лидеров даже такие команды есть, а не только отдельные помощники. Мы про них вспоминаем, когда они совершают какие-то проколы, вызывая бурное обсуждение в обществе, а потом опять забываем, и они уходят в тень.
Последнее, о чем бы я хотел сказать — с Александром Николаевичем Архангельским я соглашусь, надо ставить великие задачи. Но надо решать и задачи негромкие. Мне кажется, что сегодня для развития русского языка надо не только ставить великую задачу завоевать мир и победить английский язык, что в принципе невозможно, а задачу обеспечить свое собственное общество, свой собственный народ необходимыми лингвистическими инструментами. Хотя это звучит технически, но еще раз повторяю, рецепт очень простой. Это учебники, словари, грамматики, некая связь обратная, неважно, в режиме интернета, в режиме справочных служб, которая позволяет любому человеку, интересующемуся русским языком, получить ответ на свой вопрос простейшим способом, не ища в десятках книг, а просто нажав некую кнопку на клавиатуре. Сегодня люди не пользуются словарями для проверки, а просто набирают в поисковой системе слово и видят, как оно написано, и идут за массами. В частности, перестают знать алфавит и так далее. То есть сегодня нужно обеспечить сограждан простейшими инструментами языковой проверки, доступными всем, но свободными от массового искажения.
Ирина Левонтина
— Максим Анисимович Кронгауз, по-моему, в основном на вопросы, которые были, ответил; я, если можно, выскажу два соображения по поводу доклада Вячеслава Алексеевича Никонова. Мы, конечно, очень любим русский язык и всецело приветствуем его распространение и т.д. Но один тезис меня зацепил, что в каком-то советском году в Киеве было много русских школ, а сейчас их стало мало. Но тут ведь тоже надо понимать, что родители отдавали украинских детей в русскую школу, чтобы обеспечить им больше возможностей в дальнейшей жизни. И гордиться тем, что было много русских школ за счет убийства украинского языка -тоже, по-моему, какое-то людоедство. Украинский и белорусский языки имели совершенно трагическую судьбу. Вообще когда два языка проживают контактно, один из них более престижен и дает больше возможностей, это для другого языка трагедия. Украинский и белорусский языки к моменту распада СССР были в ужасном состоянии. Можно смеяться над этими неуклюжими попытками переводить терминологию на украинский. Национальное возрождение часто принимает гротескные формы. К сожалению, люди теряют здравый смысл, когда доходят до края. Но в принципе тоже надо понимать, что это следствие огромной боли за свой язык. Тут был такой тезис, что малые языки будут поглощены большими, и слава Богу, так удобней. Конечно, лингвисты никак не могут смотреть на это таким образом. Для нас все-таки каждый язык — это достояние человечества. И попробуйте биологу сказать, что какая-нибудь землеройка вымрет, и ничего страшного, она не так уж и нужна.
Второе. Директор школы, где учится моя дочь, очень правильно, по-моему, говорит: «Какой еще предмет — Россия в мире? В первую очередь нужен предмет — Россия в России. Потому что ученики не знают своей страны». Я совершенно согласна с тем, что сказали, что действительно нужен акцент на жизнь русского языка именно в России. Дело в том, что недавно был Год русского языка. Но, например, Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук, где я работаю (а там делаются словари исторические, допустим, XVII века, древнерусского языка, орфографические, толковые словари и много всего другого), был как бы пропущен во всех программах Года русского языка. Никак этот год не отразился на жизни института. А все невероятные (по нашим, конечно, академическим меркам) деньги ушли на какие-то конгрессы в Париже. У нас в институте, как вы уже знаете, есть служба русского языка. Но она же совершенно никак не финансируется. Там сидят аспирантки. Есть в университетах аналогичные службы. Но там людям не платят ничего. Это было бы так просто — взять и профинансировать единую компьютерную систему, чтобы они могли обмениваться данными. Ведь люди хотят знать, звонят, задают вопросы, на которые в некоторых случаях нельзя найти ответа в словаре. Как будет данное слово писаться в таком-то контексте? Но это должен ответить специалист.
Я бы еще добавила важную вещь — популяризация. В тот же самый Год русского языка никаких передач не появилось — ни на радио, ни на телевидении. Я часто выступаю на публике, как и Максим, и он подтвердит, что огромный интерес есть. Но когда приходишь куда-нибудь и начинаешь говорить: давайте сделаем то-то и то-то, в ответ слышишь неизменное: кто вас будет слушать? Два с половиной пенсионера? Так говорят чиновники. Во-первых, пенсионеров у нас не два с половиной человека, а очень много. Во-вторых, я вам точно скажу, что слушают, и про русский язык интересно всем, включая молодежь.
ОСОБАЯ ПАПКА
Даниил Дондурей:
«В России сейчас не культуротворческая ситуация»
Настоящее время, видимо, один из немногих периодов отечественной истории, когда нация живет без идеалов. Это является следствием и одновременно влечет за собой целый ряд моральных поражений и болезней. А значит, и интеллектуальную, эмоциональную, художественную обесточенность. При этом срабатывают, чувствуют себя вольготно в своих худших проявлениях российские этнокультурные особенности.
— Согласны ли вы с утверждением, что Россия начала терять свою культуру? И что мы живем тем культурным наследием, которое осталось от прошлого?
— Такие резкие утверждения правомерны лишь в определенном контексте, но и при этом носят достаточно ограниченный характер. Культуру нельзя терять, тем более потерять. Она всегда существует, непрерывно воспроизводится. Речь идет, надеюсь, не о культуре в узком смысле слова, когда к ней относят в основном артефакты высокого достоинства — произведения искусства, традиции, обстоятельства, связанные с созданием великих творений, селекцию и жизнь гениев. Очень редко даже в этой ограниченной версии культуры речь заходит о потреблении ее благ, продуктов и услуг.
На самом деле культура — это вся система программирования человеческой деятельности в данном этносе, на определенной территории или конкретном отрезке истории, связанная с ценностями и нормами этого этноса, моральными принципами, образцами поведения, идеалами, стереотипами, национальным характером и целым рядом других мировоззренческих вещей. К культуре мы можем отнести и действующую в этот момент идеологию как картину мира, и, безусловно, этнические матрицы, например, саму природу того, почему «то, что русскому хорошо, то немцу смерть». Это и разного рода предписания, ограничения, табу. В этом смысле культура постоянно пульсирует, видоизменяется. Но при этом она никуда не исчезает. Ни один народ без нее жить не может.
Теперь о том, что касается традиционных представлений -создаем ли мы признанные в мире шедевры, благодаря которым любой школьник от Кейптауна до Рейкьявика, от Гонконга до Сиэтла знает, кто такие Толстой, Чехов или Чайковский? Такого уровня произведений мы уже не производим. Необходимый для этого колоссальный креативный потенциал утерян. В России сейчас — непродуктивная, некультуротворная ситуация: у нас большая драма с мировоззрением.
При этом срабатывают, чувствуют себя вольготно в своих худших проявлениях российские этнокультурные особенности. В частности, такие архетипы, подсознательные приоритеты, как нелюбовь к труду, жажда того, что описывается замечательным русским словом «халява», патернализм, страх свободы, надежда на «авось», иждивенчество. Воспроизводятся программы, которые по существу не соответствуют тем идеалам культуры, которые здесь же действовали в XIX и в начале ХХ века.
— Но любовь народа к «халяве», кстати, не только русского, была и прежде — в XVIII, XIX и XX веках.
— Произошел очень значимый процесс, связанный с тем, что общественная мораль больше не табуирует эти поведенческие модели как негативные, в качестве отрицательных свойств личности, больших социальных групп, целых сословий, да и народа в целом. Плутовство, коррупция, казнокрадство, конечно, существовали и в XVI, и в XX веке. Достаточно вспомнить русско-японскую войну 1905 года, когда несколько миллионов пар обуви, поставленных армии, оказались без подметок. Тем не менее отношение к этим явлениям никогда прежде не было в обществе таким нейтральным, терпимым, как сейчас. По большому счету, морально обществом не осуждаемым.
Как и все этнокультурные системы, Россия — уникальный культурный мир, связанный, среди прочего, с двойным языком, двойной моралью, с двойным типом сознания, с двойной судебной системой…
Кстати, это ее креативное преимущество. Чтобы быстро ориентироваться в нашей жизни «по понятиям», нужно уметь считывать довольно сложные коды. Сейчас важные культурные запреты сняты, смикшированы, официальные нормы действуют более расширительно, чем раньше. Насилие, например, символически не оценивается как негативная, неправильная, скрываемая, «нехорошая» практика. Психологически люди к этому привыкли, притерпелись.
— В России всегда существовала система контроля за сознанием. Но в то же время очень многие знаковые произведения создавались вопреки этой системе контроля, как бы противодействуя ей.
— Конечно. Во все времена в нашей стране существовали беспрецедентные системы контроля над инакомыслием, которых в Европе и в других социокультурных системах последние века не было. У нас всегда существовала жесткая вертикаль, когда власть находилась над всеми сферами человеческого общежития, над моралью, правопорядком, экономикой — над всем. Эта схема при всех режимах воспроизводится со времен монголо-татарского ига. Но именно в последние 15 лет общество — вот это суперновость — лишено идеалов, желаемых образцов, которые прежде в какой-то форме, в каких-то масштабах были у интеллигенции. Таких «старых» идеальных устремлений, как, скажем, раскрепостить народ, вывести его из неволи государства, предоставить человеку возможности для развития — подобных устремлений, сильно переживаемых большинством, сегодня нет.
Можно сказать, нет вечного, очень важного потенциала российской культуры — «энергии заблуждений». Не осталось гуманитарных заблуждений, свойственных Золотому веку русской культуры, с 1820-го по 1890 годы. И эпохе величайших русских утопий, которые существовали следующие 40 лет, в Серебряный век, с 1890-го по 1930 годы, пока Сталин все это не утопил в крови. Сегодня ничего подобного — видимых и невидимых смысловых рек — в сущности, нет.
С другой стороны, русская культура по природе своей очень креативная, мощная, наполненная, когда сталкивается с проявлением явного тоталитаризма. Современный тоталитаризм куда более хитрый, сложный, нерефлексируемый. Зачастую он использует самые современные технологии, позволяющие обществу выпускать весь интеллектуальный и психологический пар. Сегодня появилось много новых институций, в которых можно говорить абсолютно свободно все что угодно — об авторитаризме, несвободе, состоянии судов, спецслужб, Кремля. Но объем несвободы от этого только увеличивается, уходит в подсознание, в повседневные практики. Новые пиар-технологии распространения значимых смыслов требуют от художников нового мышления. Старые технологии, которые мы знаем по прошлым временам от Державина до Мандельштама и Эфроса, уже не срабатывают. Задействованы другие запреты: разрешения, другая энергетика, другие художественные горизонты, другие коммуникационные системы.
— Но во всем мире существуют пиар-технологии, которые власть использует в своих интересах.
— Безусловно. Только обращаю ваше внимание, что в течение, например, одного предыдущего столетия принципы самого существования, я имею в виду, конечно, не только экономику, но всю систему жизни, ни в одной стране мира не пересматривались настолько тотально, как у нас. Сначала в 1917-м году, потом в 1992-м. Нигде не было полной смены всех оснований устройства социума. В России действовала мощнейшая идеологическая мясорубка -культурная, социальная, мировоззренческая, моральная, эстетическая. Эта мясорубка жестко заменяла одну систему жизни на другую. В результате сегодня, как никогда раньше, потеряв многие источники своей энергии, эта система оказалась содержательно обесточена. Люди в нашей стране не знают, ни в какое время, ни при каком общественном строе, ни с какими идеалами они живут. Часть страны хочет окончательного отторжения социализма, другая — обожает телепрограммы Парфенова и концерты Пугачевой с их ностальгией по прежним устоям.
Существует масса специальных программ на телевидении, которые неявно, тонко, но настойчиво продолжают показывать, что Россия живет в окружении врагов или что либеральная революция виновна в несправедливости происходящего. Очень много таких форматов, производством которых заняты главные «фабрики мысли» — я имею в виду, конечно, телевидение, радио, интернет.
Но и элиты не могут создать произведения высокого искусства. Просто не в состоянии это сделать, потому что в наших головах накоплены горы мировоззренческого мусора. Вот и экономисты думают, что могут внедрять универсальные представления о правильной экономике без учета национальной специфики или психологического состояния общества. В нашей стране десятки миллионов еще, к сожалению, живут по схемам 30-х, 50-х, 70-х, 90-х годов. Не больше 20 процентов населения по своим представлениям, картинам мира находится в настоящем времени, в 2011-м. А шесть из каждых семи человек — в прошлом. Они просто не считывают вызовы современной жизни, не понимают, как теперь она устроена. Почему, например, не надо ненавидеть своего работодателя. Не понимают, почему воровство — не «эффективная технология», а халявное мышление приведет страну к неотвратимому отставанию в развитии.
— Это означает, что мы говорим скорее не о какой-то варваризации страны в культурном плане, а скорее о растерянности и распутье, на котором сейчас находится большинство населения.
— Я бы с вами согласился только отчасти. Проблемное пространство, на которое я, безусловно, пытаюсь обратить внимание, касается в первую очередь деятельности российских элит. Они сегодня оказались не способными переварить то, что произошло на рубеже 90-х годов. Не смогли предложить идеалы, образцы поведения, сами образы будущего. Не справились с макрозадачами, связанными со снабжением родного народа, всей гигантской этносоциокультурной общности, жизнеспособными программами. Более того, на мой взгляд, не осознают той расширяющейся галактики опасностей, которая в связи с этим постепенно накрывает всю нашу систему жизни. Элиты не считывают эти опасности, не ощущают их значимость. Ну, какие-то продвинутые люди, конечно, говорят, что без модернизации нам никуда. Но на самом деле общество по большому счету не осознает истинную причину стагнации в той степени, в какой оно понимало надвигающуюся опасность во время войн или тоталитарного насилия.
Шансов выиграть главную, на мой взгляд, конкурентную битву будущего — за качественную, развитую, сложную личность — пока у нас нет. А следовательно, и конкуренцию за адекватное времени развитие культуры. За это, конечно, отвечают все силы общества, но в первую очередь элиты. Они не смогли должным образом напугать высшую политическую власть, не убедили экономистов, что никакие правильные западные модели в нынешних культурных, моральных и мировоззренческих условиях производства смысловых пустот и имитаций выжить не могут.
— Достаточно ли для изменения ситуации просто вкладывать в культуру деньги? Или нужно, быть может, искусственно создавать энергию заблуждений, о которой вы говорили?
— Это все неэффективно. Энергию заблуждений создавать вообще нельзя. Она возникает сама собой, из тысячи факторов. В общем-то, я, видимо, не совсем точное выбрал определение -«энергия заблуждений». Может, более точным словом является культурная утопия. Но современная утопия представляет — порождает, программирует — куда более сложные процессы, чем это было 100 лет назад.
Мне кажется, что переждать сложившуюся ситуацию уже невозможно — возникает ощущение, что речь идет уже не о жизни, а о выживании. Сегодня нужно невероятно интенсивно заниматься «системной модернизацией системы». На это следует бросить все интеллектуальные силы. Нельзя рассчитывать только на экономические изменения или на что-то, связанное с социальными или политическими благами, предоставляемыми человеку. Нужно взглянуть по-новому на все — политическую систему, гражданское общество, мировоззрение, мораль, российскую культурную матрицу. В плане состояния морали, мне кажется, наша страна в худшем состоянии находилась только в эпоху Гражданской войны.
Но ведь не случайно же эта тема никогда не обсуждается всерьез. Вы не найдете ни одного выступления лидеров или представителей политической элиты России на эту тему. Ни одного экономического текста, где бы речь шла о том, что чувство всеобщего недоверия всех ко всем — важнейший экономический, мультисистемный фактор. Он не позволит что-либо в положительном плане изменить, в первую очередь в экономической сфере. Очевидно же, что экономика и ценностное состояние общества связаны напрямую.
Как лечить все эти болезни, если даже диагнозы не поставлены? Общество адекватно не осознает, что с ним происходит. Во многом мы не знаем той реальности, в которой живем. А значит, ведем себя как дети. Закрыл глаза — и реальности с ее проблемами просто нет. Гигантские ресурсы, территория, население, история, имиджи позволяют и будут позволять еще какое-то количество лет так существовать, самим себя обманывать. Но, я думаю, мы, несмотря на темпы роста автомашин в семье и количество выездов на Запад, мы не должны подвергнуть сомнению тот факт, что наша система жизни сегодня подвержена колоссальной и многомерной и скверно изученной пока болезни.
ОСОБАЯ ПАПКА Александр Архангельский:
«Мир управляется не одними только интересами»
В России власть упрощает картину мира, которая должна быть в голове современного человека, с ее точки зрения. То, что происходит с образованием, вы сами видите. Это не просто экономия на спичках, это совершенно точно стремление упростить картину. Образование должно спрямить мозги, а не усложнить их. Хотя на самом деле современный человек должен быть предельно сложным, иначе он не может в этом мире жить и действовать.
— Почему, когда иностранцы говорят о нашей стране, они вспоминают Льва Толстого, Чехова, но практически никогда не называют современных знаковых имен?
— Если говорить о литературе, то, конечно, последний роман, который произвел на западного читателя невероятное впечатление и перевернул миросозерцание целого поколения, это был «Доктор Живаго» Пастернака. Роман, который вернул в этот расхристанный мир ощущение, что христианская вера жива. Хотя, может быть, она не всегда церковная. Что русский мир трагичен, но и величественен. Несомненно, свою роль в «продвижении» романа «Доктор Живаго» сыграл тот политический скандал, который сопровождал его публикацию. Но скандал был быстро забыт, а книга осталась. Вы ее найдете в любом захудалом книжном магазине Европы и Америки.
В любом магазине можно найти книжки Улицкой, только что перевели в Америке того же Сорокина. Но, конечно, сегодня нет ни одной книги, которая бы до глубины души потрясла западного читателя. Но одной литературой дело не исчерпывается. Есть до сих пор еще русский театр, есть, несомненно, кино, например, Тарковский, есть много чего еще. Нет тех произведений, тех имен, которыми, как паролем, открывались бы двери в какие-то иные миры. Я имею в виду русских имен для Запада. Сказывается недостаточный интерес к русской теме и отсутствие моды. Но и отсутствие такого глубинного предложения. Предложения, скорее, конъюнктурные.
— Ваши коллеги, например, считают, что в России сегодня сложилась некультуротворная ситуация, которая, по сути, тормозит появление ярких личностей.
— Думаю, дело не только в этом, может быть, не столько в этом, сколько в самой России, где сложилась ситуация разгумани-таривания. Когда ни общество, ни элита, я сейчас имею в виду не только политические элиты, но и элиты экономические, научные, не ощущают, что смыслы управляют миром, а не интересы. Нет этого полноценного ощущения. А когда нет вокруг ощущения, что именно смыслами управляется мир, то все, что связано со смыслами, сдвигается на периферию общественного внимания. А все, что сдвигается на периферию общественного внимания, начинает хиреть.
Для того чтобы появился Пушкин, мало было предшествующего XVIII века, когда накапливался опыт прямого разговора о самых важных вещах на русском художественном языке. Но нужно было, чтобы Карамзин и Жуковский подготовили русскую публику к тому, что в литературе будет происходить самое главное. Главное не в культуре, а вообще в жизни. Без такой совместной веры в то, что от культуры ценности, от картины мира, которая встает у нас перед глазами, зависит, в конечном счете, и успех цивилизации, без этого никакая отдельная творческая личность ничего сделать не может. Это как корабль. Вы построили прекрасный корабль, отличный, самый совершенный. Но ветра нет, паруса неподвижны, и нет движения.
— Но, может, проблема заключается в пресловутой свободе творчества, когда больше никто ничего не контролирует и не навязывает?
— Я не думаю, что дело в этом. Более того, я-то как раз думаю, что не случайно последняя русская книжка, которая произвела интеллектуальный переворот в мире, написана писателем, сформировавшимся в другую эпоху, до революции, в свободном мире. И сумевшим пронести в себе эту русскую свободу сквозь все препятствия советской эпохи. А дальше начинается постепенное захирение. Русская культура оказалась очень мощной. Она под советским покровом прожила очень долго, под цензурным покровом сумела продержаться. Но и она начала в конечном счете задыхаться, у нее началась асфиксия. И в следующих поколениях она стала более худосочной.
То, что мы сегодня имеем, это скорее следствие, а не причина. Следствие не того, что рухнула цензура, а следствие того, что слишком долго душили культуру подушкой. Цензура вещь не полезная. Полезная вещь — это напряженное отношение к смыслам. Что было в советскую эпоху, несомненно, это было наследием всей предшествующей русской культуры. Это то, что люди понимали в массе своей, что от смыслов зависит и производство, и прорывы в науке, и, в конечном счете, комфортная среда обитания для каждого отдельного человека. Что человек рожден не для того, чтобы заработать денег, наесться и умереть. А он зарабатывает для того, чтобы жизнь вокруг него была чуть полегче, и это освободило бы ему время для познания самого себя и мира вокруг себя.
— Тогда у общества существовали идеалы. А как с ними обстоит дело сейчас?
— Думаю, что сильного проявления таких идеалов нет. Хотя в последние несколько лет я вижу, как такие запросы начинают спонтанно проявляться, причем, в самых разных слоях. Например, молодой человек, работающий на хорошей должности в крупной компании, мне рассказывал о том, как он и большинство его друзей в свободное от работы время стараются помочь людям, которым не повезло в этой жизни — инвалидам, бедным. Благотворительность перестала быть какой-то формой пропаганды всего хорошего и светлого. И стала частным делом людей. В этом, думаю, проявляется некоторая тоска по идеалам, по тому, что выходит за рамки непосредственно бизнес-интересов. Мы видим, как гражданские какие-то движения возникают. Не политические пока, во всяком случае. Это борьба за право человека жить на своей земле, не считаясь с бюрократическим бизнесом.
Конечно, история с защитой Химкинского леса не такая простая. Но мы видим, что все-таки она объединила людей. Не потому, что они хотели себе урвать кусочек этого леса, а потому, что они искренне хотели защитить природу вокруг себя. Достаточно поместить в интернете какой-то пост — с призывом помочь кому бы то ни было, — и тысячи людей откликаются сразу, я вас уверяю. Это тоже тоска по идеалу. Эта тоска проявляется и в других формах. Может быть, пока не связанных на сегодняшний день с литературой, хотя уверен, что это будет, но связанных с практическим действием. Это не романтики, это прагматики. Это молодые прагматики, которые ощутили, что им мало этой прагматической жизни. Они хотят еще какую-то другую жизнь прожить. И эта жизнь открывается им в гражданском действии, в помощи тому, кому в этой жизни не повезло.
И, наконец, конечно, не случайно то, что люди достаточно обеспеченные, достаточно успешные, вдруг стали задумываться — а как устроена политическая система. Они не пошли на марш несогласных. Но они пошли в дорогие кафе, где начали разговаривать о том, а как надо устроить жизнь так, чтобы она была более справедливой. Началось это смысловое брожение. И я уверен, что на культуре это скажется.
— Как бы вы оценили реакцию на такое брожение со стороны власти?
— Власть ведет себя разнонаправленно. С одной стороны, она последовательно упрощает картину мира, которая должна быть в голове современного человека. То, что происходит с образованием, вы сами видите. Это не просто экономия на спичках, это совершенно точно стремление упростить картину. Образование должно спрямить мозги, а не усложнить их. Хотя на самом деле современный человек должен быть предельно сложным, иначе он не может в этом мире жить и действовать. Власть не мешает инициативе, если эта инициатива кем-то проявляется. Но сама не особенно содействует. Более того, я вижу, как она лукаво перекладывает на чужие плечи ответственность за те решения, которые она сама принимать не хочет, но осуществления которых все равно добивается. Яркий пример — передача музейного имущества религиозного назначения религиозным организациям. Давайте прямо скажем, это сброс ответственности за музеи и за здания, которые они занимают. При этом государство не хочет само эти музеи закрывать. Оно хочет, чтобы это сделала церковь. Через шесть лет, когда церковь получит те здания, на какие сегодня подала заявки, ей станет не хватать средств на то, чтобы эти здания содержать. Но музеи уже будут закрыты. А общественное раздражение будет направлено на церковь, а не на власть. В общем, это довольно циничное отношение.
Но при этом другая часть элит начинает сознавать, что именно в сфере культуры, в сфере человеческого сознания, в сфере идеальных установок заключен секрет успеха или неуспеха русской цивилизации в XXI веке. Все чаще приходится слышать разговоры о том, что не одними интересами управляется мир, что надо присмотреться к культуре, к ее практикам. Может быть, именно здесь мы найдем ответ на вопрос — почему не идет модернизация? И мне кажется, что это единственно возможный вариант.
— Но можно ли вообще использовать такое понятие, как модернизация культуры, или это все-таки термин из другой области?
— Можно говорить о культурном факторе в модернизации. Модернизация, если говорить нормальным русским языком, — это обновление всех сторон жизни ради того, чтобы вокруг человека была комфортная среда, комфортная для его активной деятельности, для его проявления. Для того чтобы он мог проявить себя как яркая и неповторимая личность. Для этого нужна другая экономика, другая инфраструктура. Когда мы говорим о модернизации, то имеем в виду, что культура сформировала у человека определенную ценностную шкалу, определенную картину мира, которая стоит у него перед глазами. И если не соотнести цели и задачи модернизации с этой картиной, модернизация работать не будет. Вообще, в мире она началась после войны, и я думаю, что только процентов десять стран, которые вступили на путь модернизации, добились успеха. Все остальные провалили свою модернизацию.
Успешно она проходила только там, где не было ни ломки о колено существующих культурных традиций, ни попытки эти культурные традиции раз и навсегда заморозить. Там, где понимали, что есть своеобразие, с этим своеобразием нужно срифмовать все предстоящие перемены, что человек должен осознать себя в этих переменах, узнать в них свою традицию, свой культурный опыт. Там, где пошли этим путем, модернизация была успешной.
— Мне приходилось слышать мнение, что модернизация в нашей стране невозможна до тех пор, пока значительная часть людей живет взглядами 20-х, 50-х, 70-х годов, и только незначительный процент живет днем сегодняшним.
— Есть очень простой разговор, который понятен каждому. Ты можешь оставаться каким хочешь, но подумай о своих детях. Если мы хотим счастья своим детям, тогда мы должны создать вокруг себя такую среду, которая позволит им развиваться, оставаясь самими собой, и вписываться на равных в развитый мир. И когда люди так ставят вопрос, они понимают, что надо что-то менять, надо меняться ради детей. Ради себя, наверное, они делать этого не будут, ради себя уже, наверное, сил нет. Слишком долго людей втягивали в разного рода эксперименты, слишком долго их трясло и колотило. Но я вас уверяю, я как отец вам это могу сказать, когда ты думаешь сам про себя, ты можешь быть пессимистом, а когда ты думаешь про детей, ты обречен быть оптимистом. Когда ты думаешь сам про себя, ты можешь махнуть рукой и сказать — а, на мой век хватит, когда ты думаешь, как будут жить твои дети, ты вздохнешь, перекрестишься и двинешься в путь. Потому что если ты не двинешься в путь, детям будет худо, а если детям будет худо, то и тебе будет нехорошо.
— Насколько справедливо говорить о существовании русской культурной матрицы?
— Можно говорить об этом как о проблеме, потому что часто, слишком часто понятие матрицы используют для того, чтобы оправдать отказ от любого движения. Вот есть матрица, мы в этой матрице лежим, и из этой матрицы не выскочим. Она сформирована раз навсегда, мы ее сейчас опишем и будем соблюдать, а если мы не хотим перемен, то уж, извините, это не мы не хотим перемен, а матрица не допускает. Но хочется поставить вопрос об этой матрице: существует ли она на самом деле или это наше представление о ней. И с чем мы имеем дело — с матрицей или все-таки с инерцией, которую нужно учитывать, но можно и преодолеть.
Моя точка зрения — мы имеем дело с традицией. Это не матрица. Традиция — это великая сила инерции, она очень важна, потому что в машине должен быть мотор, но должен быть и тормоз. И если не будет тормоза, машину просто занесет на первом же повороте. Но в машине не могут быть только тормоза, потому что в противном случае машина никуда с места не сдвинется и просто сгниет. Поэтому вопрос стоит так — есть эта матрица или нет. Если есть, то опишите нам ее, объясните, откуда она взялась, и почему она такая уж неизменная. Или это медленно меняющаяся традиция. Мне ближе второе понимание. Это медленно меняющаяся традиция.
— Для того чтобы сегодня улучшить ситуацию в культуре, достаточно ли просто в нее вкладывать деньги?
— В культуру деньги вкладывать надо, вопрос в том, как и во имя чего. Для начала давайте скажем, что можно у культуры хотя бы не отбирать лишние деньги. Например, во всем мире действует особый налог на добавленную стоимость для книгоиздателей. И это в самых развитых странах. У нас, в не самой развитой стране, такой налоговой льготы нет. Другое дело, что это опасная привычка — просить у государства денег. Государство, вообще-то говоря, должно поддерживать и художника, и издателя, и продюсера. Государство должно поддерживать своего гражданина. Оно должно поддерживать его право иметь доступ к современной культурной информации. И вот когда мы так ставим вопрос, понятно, что государство может вкладывать, например, в массированные закупки книг современных русских авторов для региональных библиотек, не подкупая тем самым автора, не вступая в сделку с издателем, но вкладывая деньги в читателя. Тем самым оно будет поддерживать и книгоиздание, но только косвенно. Оно может также инвестировать в рекламу российских фильмов. Может перекладывать налоги, полученные от показа иностранных фильмов, в производство своих, как это делают, например, во Франции. Но просто с ложечки кормить художника — не стоит. Во-первых, художник превратится в младенца и перестанет двигаться, а во-вторых, конечно, государство, как только начнет кормить художника с ложечки, то вскоре ему скажет: а ты, давай, делай вот так, так и так. А это конец любой культуре.
— Насколько справедливо представление о том, что конкурентная битва будущего будет заключаться в конкуренции личностей? Способна ли Россия выдержать такую конкуренцию?
— Примерно год назад в «Российской газете» была напечатана замечательная статья Даниила Дондурея и Кирилла Серебренникова о том, какие цели, собственно говоря, стоят перед современной культурой. Они говорили о том, что эта цель — создание сложной человеческой личности, потому что примитивная человеческая личность просто не впишется в этот современный мир. Конечно, предстоящая конкуренция будет конкуренцией личных стратегий, это будет конкуренция индивидуальных сложностей. Но на эту индивидуальную сложность, конечно, должна работать и сложность предшествующей традиции. Нам предстоит не противостоять этой индивидуальной сложности, а работать на нее. И только те страны, которые умеют это делать, будут успешны в своем развитии. Все остальные безнадежно проиграют.
Контекст: фрагменты дискуссии |
Материалы по теме
One Comment »
Оставить комментарий!








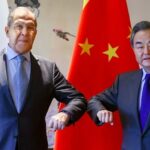





Что бы подарить яркие эмоции достаточно просто заказать подарочный сертификат экстрим для мужчин который подарит незабываемые впечатления.