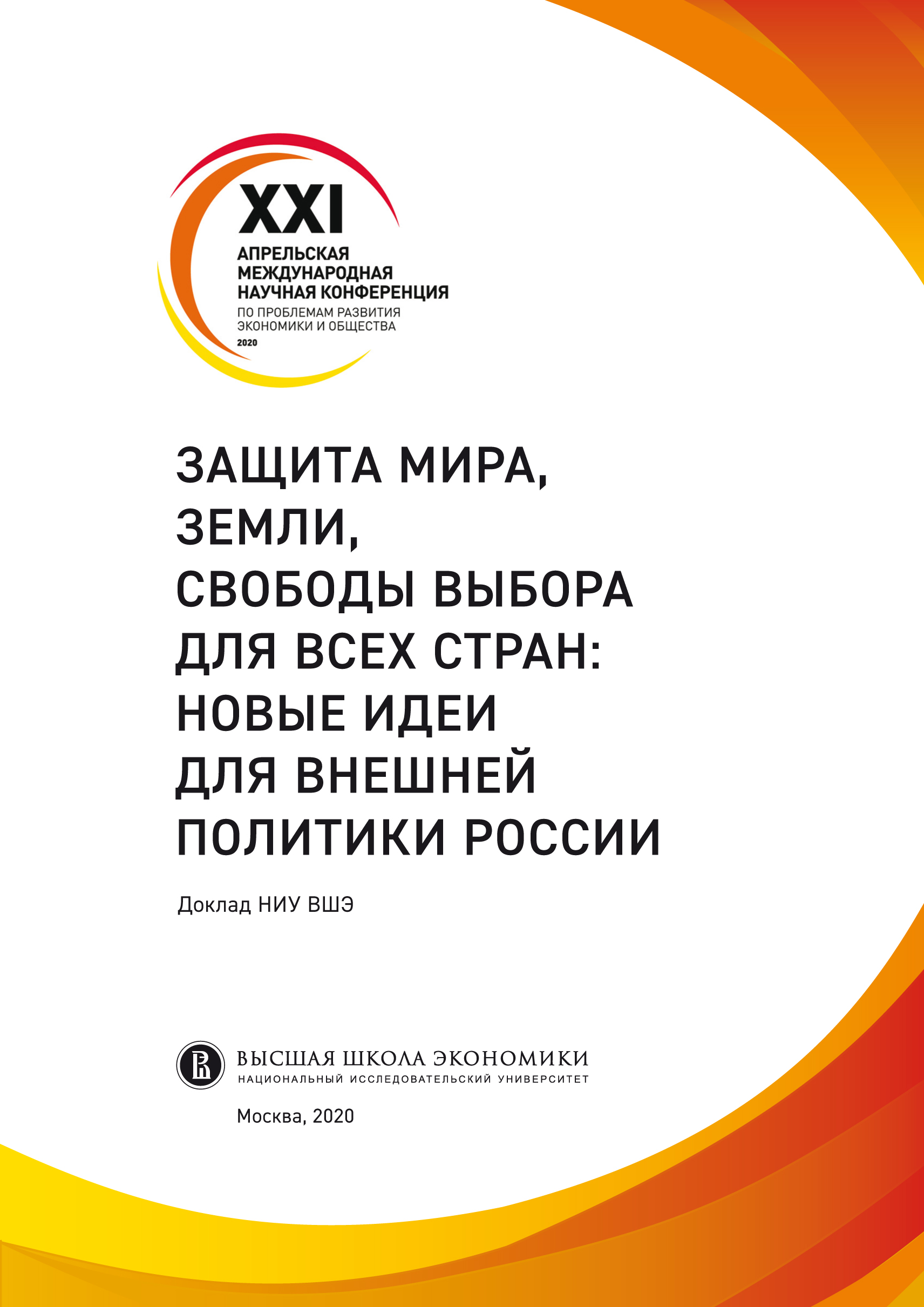Лекторий СВОП: Что думают о России на Западе?
5 июля участники Лектория Совета по внешней и оборонной политике обсудили, что думают о России на Западе? Каков образ нынешней России в глазах западных обывателей, политиков? Как он отличается от образа СССР, что изменилось с тех пор, что сегодня становится конституирующим звеном российского имиджа?
Иван Крастев – политолог, аналитик по социально-политическим и международным вопросам, председатель Центра либеральных стратегий в Софии, постоянный научный сотрудник Института наук о человеке в Вене. Основная тема исследований – проблемы демократии в современном мире, кризис привычных институтов, ситуация в посткоммунистических государствах. Автор книг The Anti-Corruption Trap (2004), In Mistrust We Trust (2013).
Федор Лукьянов – председатель СВОП
Федор Лукьянов – Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз мы собираем наш лекторий этим жарким летом. От всей души хочу поблагодарить всех пришедших в пятницу вечером в жару, при обещанном штормовом предупреждении. Это действительно впечатляет, учитывая обилие выбора в летней Москве. Я надеюсь, что мы вас не разочаруем, поскольку сегодня Совет по внешней оборонной политике имеет счастье и удовольствие принимать нашего давнего друга, человека, которого многие знают в России в разных качествах и прежде всего как очень тонкого ценителя российской европейской посткоммунистической политики, человека, который способен на очень точную оценку происходящего и очень тонкие наблюдения того, чтобы происходит, — Иван Крастев – гость СВОПа. Мы при его участии, при участии организаций и институтов, с которыми он сотрудничает, прежде всего, Европейского совета по международным делам и Центра либеральных стратегий в Софии, провели на днях в Москве конференцию на животрепещущую тему о судьбах демократии. Кому интересно, могут найти все материалы через некоторое время на сайте СВОП, там будет и расшифровка, видео и фотографии. Мы там все красивы и одухотворены внутренним интеллектуальным свечением. И мы, конечно, не могли упустить такую возможность и не пригласить Ивана [Крастева] на нашу серию.
А тема, которую мы сформулировали, возможно, не самая интересная для иностранного гостя, потому что об этом говорят все время и, кажется, что ничего нового уже не скажешь. Но нам показалось, что многое, несмотря на то, что тема действительно очень популярна и у нас, и на Западе, но, тем не менее, многое, что говорится, является таким же стереотипом, как и собственно западный взгляд на Россию и взгляд из России обратно.
Поэтому мы попытаемся сегодня разобраться, почему все-таки вот так дело обстоит в нашем взаимном растущем непонимании, потому что чем более Россия является частью глобальной среды, а это абсолютно бессмысленно отрицать (что мы в нее вошли и уже никуда не денемся, никакой изоляционизм, никакое сепарирование невозможны), и, казалось бы, чем глубже мы там, тем больше мы должны хотя бы понимать, что происходит. Этого не происходит. Мы как-то сейчас стараемся отдалиться от этой внешней среды, видя ее в основном как враждебную (не в смысле враждебного государства, которое нам угрожает, как раньше), а сейчас как раз формируется такое представление о мире, который в целом сам по себе является опасным. И если посмотреть даже на программные документы, которые выпускает и российское Министерство иностранных дел, и статьи президента Путина, вот эта вот картина укореняется очень глубоко: все ужасно, ничего непонятно, поэтому рациональный выбор — попытаться от этого как-то отделиться.
Со своей стороны Россия, проходя свой внутренний путь, выглядит извне как-то все более странно, а для некоторых, видимо, пугающе. Хотя нам-то здесь кажется: а чего нас боятся, мы уже не Советский Союз? Тем не менее, вот это внутреннее отчуждение не идеологическое, а, скорее, психологическое, такое впечатление, что оно растет. И поскольку мы с Иваном давно знакомы, мы много раз это обсуждали, мне кажется Иван Крастев – это именно тот человек, который может попытаться нам объяснить, что все-таки случилось и, самое главное, чего же ждать дальше. Поэтому я бы хотел начать с вопроса: а чего боятся сейчас в Европе, глядя на Россию, которая в том же самом европейском описании, если почитать газеты, выглядит странно. Пишут: страна в упадке, демографический кризис, экономика однобокая и недоразвитая, перспектив нет, политики внятной нет, элита не знает, что надо, а чего бояться такую страну?
Иван Крастев – Сперва я хочу извиниться за уровень моего русского языка. Это болгарская проблема. Мы всегда, когда говорим на плохом болгарском, думаем, что говорим по-русски. Пожалуйста, если вы что-то не понимаете, это не вы, это я виноват. Второе, чтобы ответить на ваш вопрос, я хотел три простые вещи сказать, потому что есть 4 предпосылки, которые все-таки проблематичны. Первая: сколько Запад уже существует в едином представлении России. Была позиция Запада по отношению к Советскому Союзу. Существует ли она по отношению к России? Год назад было исследование позитивных и негативных отношений к России в Болгарии, и 88% болгар относились позитивно к России. В России 84% русских относились позитивно к России. Это для разных стран довольно по-разному. Вторая проблема, что некоторые думают, что на Западе мы вообще не думаем. В каком смысле? Даже когда мы говорили об этом заголовке, мне кто-то дал перечитать Бабеля «Что думает Фроим Грач?» о мировой революции. Там гениальная цитата: «Он думает об выпить рюмку водки, об набить кому-нибудь морду, и об своих лошадях». Проблема в том, что в Европейском союзе во время кризиса мы все думаем о себе.
Федор Лукьянов – Это рюмка водки та самая?
Иван Крастев – Конечно, рюмка водки всегда хорошо. Но проблема в том, что я хочу сказать, что боятся или не боятся. Советский Союз боялись, потому что думали, что все ясно. В России, даже я бы сказал, обеспокоенность идет, оттого что все ясно, потому что у тебя есть ощущение, что ты понимаешь, что происходит на самом деле. Это совсем другое. С этой точки зрения, это не страх, но это такое недопонимание: «а почему они это делают или не делают, почему это так, почему они нас понимают или не понимают» – это разные вещи в разных странах, но это совсем другая серьезная вещь. Потому что никогда не было в Европе так много русских, чтобы они могли просто с нормальными людьми говорить. Между прочим, в Болгарии никогда не жило так много людей из России из бывшего Советского Союза, во время Варшавского договора вообще не было так много людей. Проблемы общения нет. Европейцы всегда думали, что если кто-то говорит, что мы являемся заплатой, это не так – мы не являемся никакой заплатой, у нас военный бюджет идет все время вниз, почему в России военный бюджет идет вверх. И второе, самое главное для меня. Когда есть отношения между двумя государствами – это всегда отношение 6-ю акторами: первое, что мы думаем о самих себе, второе – что мы думаем о других, и третье – как нас видит Бог на самом деле. И с этой точки зрения проблема Европейского союза в том, что мы верим, что никто не может серьезно думать, что мы являемся угрозой. Я думаю, Россия думает о себе то же самое, но это проявляется как проблема.
Еще одна цифра, чтобы вы себе представили. Когда ты говоришь с новыми людьми в России, они думают, что негативное отношение и стереотипы по отношению к России очень сильные, а, скажем, в Бразилии или в Китае, Венгрии людей лучше понимают. Если вы прочитаете социологические опросы, вы заметите, что на самом деле отношение к России, скажем, в Германии, Франции и даже Великобритании более позитивное, чем в Индии и Бразилии. Потому что для Индии и Бразилии Россия не так уж важна, они просто не знают, оно у них не негативное, они просто не знают. Разница в том, что после протеста в России, 20% немцев здесь, в России, и 22% французов поменяли свое отношение к России от позитивного к негативному. Это более интересно, что многие люди здесь интересуются внутренней политикой России. Оказывается, что запад существует. Это единственный международный игрок, который так интересуется внутренними процессами России.
Федор Лукьянов – Хорошо. Это мы говорим о текущей ситуации. Складывается впечатление, что российский образ, меняясь в деталях конъюнктурно, базируется на каких-то очень давних представлениях. Мне кажется, мы с вами когда-то говорили некоторое время назад о том, что в каком-то смысле современная Россия воспринимается так, как она воспринималась в 19 веке, т.е. не Советский Союз, а еще дальше. Это действительно так?
Иван Крастев – Я думаю, что все-таки была большая разница между тем, как воспринималась Россия до революции и после революции. В1920-е годы ты можешь любить или ненавидеть Советский Союз, но Советский Союз выглядел как гость из будущего. Когда люди говорили о Советском союзе, они говорили о будущем, будущем, которого они боятся, будущем, которое они как-то поддерживают. Но это был разговор абсолютно другой цивилизации. Была известная фраза, что самое интересное место в Советском Союзе – это Нью-Йорк 1930-х годов. Потому что вся американская интеллигенция все время жила со спорами, которые шли в Москве. И с этой точки зрения Советский союз был глобальной цивилизацией. И я думаю в 1960-х тоже: после (запуска) спутника было ощущение, что образ Советского Союза – это был образ не просто сильного государства, но и совсем нового, другого, как из будущего.
Проблема с Россией в 19 веке, даже когда там уважали, не уважали, все-таки Европа смотрела на Россию как на свое прошлое, это была проблема стиля. В 19 веке, конечно, Россия была сильным государством с экономической и военной точек зрения, а у них как-то был старый режим, то, что у нас до этого было. И с этой точки зрения теперь, когда появляется такая проблема, Россия не выглядит для новых европейцев внушительно по сравнению с Советским Союзом. Она напоминает европейцам то, что было на самых классических европейских позициях новых вопросов много лет тому назад, скажем, отношение к суверенитету, теперь, конечно, новые европейцы говорят о России как супер сенситивности по отношению к суверенитету. С этой точки зрения, я думаю, что это существует. Это большая разница между тем, как воспринимается Россия и как воспринимался Советский Союз. Даже когда было очень сильное ненавистное отношение к Советскому Союзу, это было из будущего.
Федор Лукьянов – Интересно, ведь у нас в России по отношению к современной Европе, не будем обобщать, говорить о Западной Европе, восприятие противоположное, но тем более негативное. Потому что то, что происходят идейные культурные изменения, которые происходят в Европе, здесь воспринимаются как совершенно откровенный отказ от европейских корней. И когда еще недавно, 2-3 года назад, шла дискуссия о том, привержена ли Россия европейским ценностям или нет, Европа нас критиковала, а мы отвечали: «Вы не правы, мы привержены, но дайте нам время. У нас свой путь, мы должны прийти сами». Сейчас все изменилось. Сейчас говорится о том, «какие ценности, вы сами от них отказались, мы привержены этим ценностям классическим, а то, что вы от нас требуете…», грубо говоря, когда Россия в 1996 году вступала в Совет Европы, никто не говорил, что базовые ценности – это однополые браки. А теперь считается, что обязанности страны члена Совета Европы их уважать. И более того, у нас уже неоднократно было артикулировано, что мы и есть настоящая Европа, потому что мы возвращаемся к корням после Советского эксперимента, мы восстанавливаем в том числе христианские ценности, а вы отказываетесь. Это значит, что мы вообще идем в разных направлениях?
Иван Крастев – Я это заметил первый раз в начале 1990-х во время распада Югославии. Я думаю, что просто так случилось, что когда последние 20-25 лет у Европейского союза было то же ощущение, что мы бывшие, можно это любить или не любить, но все эти требования, которые были замечены в Европе, это были требования везде. Например, то отношение к суверенитету, которое уже не может быть тем, что было, потому что там мы живем в мире, довольно связанном. Что это значит быть суверенным в 19 веке, когда существует глобальный рынок. Второй уровень культур, как будет национальное государство, когда миграционная волна идет везде. Тут постмодерновая Европа смотрела на себя как век, который идет. Проблема кризиса создает ощущение, что мы универсальны в нашем опыте довольно специфически, потому что очень разные страны. Скажем, Индия, с одной стороны, Китай, Соединенные Штаты Америки. По отношению к суверенитету они ближе к России, чем к Европейскому союзу. Это классическое отношение. Теперь мы уже не знаем.
Второе, демографическая проблема. Для Европы это довольно важная проблема. Чтобы показать, как это меняется с точки зрения демографии, я думаю, что Европа выглядит так, как Азия будет выглядеть через 25-30 лет. Но после 25 лет большая часть населения Европы будет старше 60 лет. Есть удивительно красивая книга, которую Жозе Сарамаго написал, и которая называется «Перебои в смерти». Там рассказывается о стране, в которой в январе никто не умер, и в феврале никто не умер, и в марте никто не умер, и как-то в апреле люди уже начали триумфально говорить о том, что смерти в этой стране нет, и это было счастье на 2 или 3 месяца. После этого начались проблемы. Сперва католическая церковь стала нехорошо себя чувствовать, потому что если никто не умирает, воскресить не может никого, а потом страховые компании поняли, что если никто не умирает, умирают они. А потом все эти люди, которые заботились о старых и больных, которые не умирали, они начали делать какие-то контрабандные каналы, чтобы этих больных людей вывезли в соседние страны, где они могут умереть. Книга заканчивается, когда люди идут к королю и говорят: «Если мы не начнем умирать, у нас нет будущего». Я привел пример этого, потому что из-за всех этих демографических и политических проблем Европа думала о себе как о лаборатории. И тогда Россия – это то же самое по отношению к Китаю и даже Индии, и это не проблема демократии в демократии; проблема суверенистского разделения это не то же самое что и проблема демографическая. Тогда европейцы говорят, ну что вы творите, вы не можете вести себя так, как в 19 веке. А как вести себя в 21 веке мы уже не знаем. Я думаю, что это напряженность с точки зрения Европейского союза и России идет от того, что мы как-то не верим, что в России мы не думаем, что это серьезно. Что это такое? Декаданс какой-то.
Проблемы русско-американских отношений – другой вопрос. Есть выражение, как я это вижу, как теперь говорят, Америка не так важна для России, как была в то время, и Россия не так важна для Америки, как был важен Советский Союз. В результате этого и со стороны России, и со стороны Соединенных штатов сформировалось понимание того, что более важна внутренняя политика, чем международная политика.
Федор Лукьянов – Вот если вернуться на секунду к теме восприятия угроз. Действительно, вы правы, в отношении России у нас лучше всех это когда-то сформулировал Геннадий Андреевич Зюганов, выступая в Думе. Он сказал, что русский народ – это самая мирная нация, народ земледельцев, тружеников и хлебопашцев, половину своей истории проведший в боях. Т.е. мы не понимаем, что тот факт, что мы половину истории провели в боях, может как-то влиять на восприятие со стороны. С другой стороны, когда вы говорите, что Европейский союз не понимает, как можно его опасаться (или западные организации), когда я, например, веду дискуссию со своими западными коллегами, я говорю: «Ребята, НАТО, которое всегда хвасталось тем, что это самый мирный победитель войны (потому что они победили в Холодной войне без единого выстрела, что правда), после окончания Холодной войны страны НАТО в альянсе или отдельно все время воюют». Четыре войны уже вели и, видимо, не последние. Это вызывает удивление, потому что говорят: «При чем здесь это? Афганистан – это одно, Югославия – это другое. Ирак – это третье». Т.е. вот это отсутствие трезвой рефлексии самого себя оно усугубляет. Но, тем не менее, когда была грузинская война 5 лет назад, я помню, что у нас велись активные споры о том, что Россия проиграла информационную войну. При том, что, безусловно, тогда была очень плохая работа по продвижению, но, на мой взгляд, Россия не могла выиграть эту информационную войну по определению никогда. Потому что достаточно посмотреть на карту. Человек в Америке смотрит на карту, ему показывают: вот это Россия – это ядерная сверхдержава, она занимает 1/7 часть суши, а это Грузия – она на нее напала. Кто в это поверит? Т.е. вопрос мой очень примитивный. Значит ли это, что бессмысленно что-то пытаться сделать с нашим имиджем как воинственной страны?
Иван Крастев – Я думаю, что это абсолютно верно. Проблема в том, что мы взаимодействовали с европейским союзом в какой-то степени через европейские элиты, и спрашивали, думаете ли вы, что есть какая-то военная угроза для вашей страны? 70% европейцев думает, что война возможна. Это уже не чтобы быть мирным или не мирным. У них там боятся разных вещей. Было намного больше угроз от климатических перемен. С этой точки зрения в Европе существует элита, которая уже не военная в стратегическом смысле слова, и потому люди уже в армию не идут, это профессиональная армия. Все военные операции, в которых европейские страны участвуют, даже французов и англичан, которые довольно активно участвуют, это населением не воспринимается как настоящая война. Второе, то, что вы говорите, потому что европейские страны, большинство из них, маленькие. Когда большой пошел на маленькие, никто не интересуется, как это происходит, всегда большой виноват. Иногда, между прочим, то же говорят по отношению к европейскому обществу, когда речь идет о США. Проблема в том, что большой, потому что он большой, он не имеет права это делать. Это как, когда полицай идет против гражданина. Ты не интересуешься, кто был прав, когда полицай бил гражданина, а проблема в том, что били гражданина. Я думаю, что это абсолютно другая ситуация. Это тоже связано с тем, что поменялось отношение к средствам массовой информации, как они отражают войны. Все-таки государство потеряло в Европе контроль над тем, чтобы государственный интерес был самым главным. Ты рассказываешь человеческую историю, а это всегда маленький человек, который прав.
Федор Лукьянов – А вот по поводу средств массовой информации. Вы хорошо знаете Россию, много здесь бывали, хорошо понимаете, что здесь происходит, все плюсы и минусы. Когда вы читаете европейскую или американскую прессу, вы узнаете на ее страницах Россию, которую вы знаете?
Иван Крастев – Я не узнаю Россию, которую я знаю, я не узнаю Болгарию, которую я знаю, и я не узнаю Соединенные Штаты, которые я знаю. Почему? Потому что проблема в том, что тебе нужно рассказать о России то, что могут понять люди, которые Россией не интересуются. Вы из рассказов о США узнаете, о Соединенных Штатах то, чего здесь нет. И поэтому есть такие истории, которые можно рассказать всем. Между прочим, они всегда нравились. Эти истории могут быть хорошими или плохими, ничего не должно быть сложного. С этой точки зрения, конечно, то, что можно рассказать всегда очень легко, что Россия опять превратилась в Советский Союз. В России есть вещи, довольно симпатичные, но это не Советский Союз, это абсолютно другое место. Тебе может нравиться или не нравиться, но это не Советский Союз. Но как рассказать, что это другое место для человека, который знает о России только то, что когда-то это был Советский Союз? Это проблема всей массовой информации. Между прочим, это то же самое про маленькую страну, такую, как Болгария. Что ты можешь рассказать о Болгарии? О коррупции? Есть в Болгарии коррупция? Есть. Это единственная история, которую ты можешь рассказать о Болгарии? Конечно, нет. Но что другое рассказать, чтобы поняли те, которые не знают, где Болгария находится? С этой точки зрения я не думаю, что это специфическая проблема. Я думаю, что это проблема людей, которым надо рассказывать истории других, такие простые истории, которые все могли бы понять.
Федор Лукьянов – У нас много говорят о том (и даже президент об этом говорит), что необходимо укреплять потенциал мягкой силы, необходимо разъяснять политику и жизнь. Насколько я понимаю из того, что объясняет президент Путин, конечно, в его интерпретации мягкая сила – это контрпропаганда. У него специфический взгляд, специфический опыт. Но если задуматься, отвлекаясь от этого, из того, что вы говорите, вытекает, что эффективным способом было бы производство симпатичных милых историй о людях, которые, например, добились успеха в новой России и строят новую страну. И вот это будет воспринято или, как часто бывает (я тоже с этим сталкивался постоянно), когда нечто такое пишется в российской ли прессе или, скажем, в тех изданиях, которые специально для Запада делаются, даже если это правда, на это говорят: «А, ну понятно, это пропаганда».
Иван Крастев – Все люди, которые читали газеты, знают о том, что все хорошее не значит интересное. Можно рассказать какую-то историю, но ты всегда, когда рассказываешь о том, что если собака съела человека, это не новость. Но если бы человек укусил собаку, это уже что-то. Я думаю, что с этой точки зрения, конечно, потолок для каждой системы более интересный. Все другое выглядит как пропаганда. Есть большая проблема с мягкой силой ветра для России. Мягкие силы были связаны с тем, что существует какой-то мир, который мы хотим имитировать. Ты там что-то видел и имитируешь. А у меня ощущение, что Россия отказалась от того, чтобы рассказывать универсальные истории (между прочим, Советский Союз рассказывал универсальные истории), и все время рассказывает о себе.
Я приведу в пример совершенно изумительную историю. Приезжает человек 28 лет, это абсолютно другое поколение, он жил в компьютере своем последние 10-12 лет, у него отношения к государству, он решил сообщить очень важную новость миру и забыл, что в мире есть государство. И поэтому ему надо жить не в компьютере, а как-то на Земле. Он оказывается в Шереметьево. Что сделало российское правительство? Сперва попросило все разрешительные организации в России дать ему совет, дать ему право остаться или нет, потому что это глобальная проблема. Пригласил всех ведущих европейских журналистов и сказал: «Что делать с этим человеком, который не имеет отношения к системе». Проблема суверенитета оказывается намного более важной для российского государства. Они говорили, конечно, хорошо, что тот человек сказал нам то, что мы знали, что американцы следят за всеми. Нехорошо то, что появляется человек, который не готов служить государству. Я думаю, это проблема мягкой силы. Мягкая сила – это когда не о России, а о мире. И с этой точки зрения это тоже проблема Европейского союза. Потому что, когда говоришь, что ты – весь мир, и когда весь мир начинает подозревать, что это тебе самому нужно, тоже нехорошо. Но я думаю, что Россия отказалась рассказывать глобальную историю, отказалась от универсальных кооперативов, которые были довольно характерны для Советского Союза. В результате этого посмотрите, что получается.
Вчера в Соединенных Штатах была попытка организовать демонстрацию в поддержку Сноудена. У них не получилось. А не получилось, потому что если бы он остался, ему нужно было бы пойти в тюрьму за то, что он знает, вы за это заплатите. Тысячи людей появились на улице, потому что американцы не любят, когда за ними следят. Это часть культуры. Когда тот самый человек оказывается сперва в Гонконге на территории Китая, но после этого в Шереметьево, они говорят: «Он сделал хорошую денежку, в конце он может жениться на Анне Чапман». Это проблема. Я думаю, что это очень важно. Очень трудно продать свою страну. Чтобы продать свою страну, надо продать образ мира, который будет.
Федор Лукьянов – Замечательная рекомендация, я думаю, что надо будет ее как-нибудь развить. Со Сноуденом, мне кажется, другая огромная тема, которую мы сейчас касаться не будем. Но мы живем в очень унылом мире на самом деле. Оказывается, не вдаваясь в анализ, какой он человек, почему он это сделал, он герострат или идеалист, что угодно. Но человек сделал некий общественно значимый поступок, и вдруг выяснилось, что он никому не нужен вообще, никто не хочет его брать: ни Куба, ни Венесуэла. Потому что кому нужна головная боль с Соединенными Штатами просто из-за того, что этот человек решил выступить? И опять же эта разница по сравнению с тем, что было в Холодную войну, тогда была альтернатива. Если ты там сказал правду, здесь тебе все рады. А тут даже Россия его вынужденно содержит. Но все слышали, как выражался президент Путин в его адрес, поддерживал по содержанию, но интонация была такая, что было понятно, к этому человеку он не с симпатией относится.
Я хотел еще немножко в другую сторону повести дискуссию. Мы с вами об этом говорили. В Европе, в особенности (в Америке чуть меньше), существует до сих пор представление, что Россия, ходит зигзагами, сама не понимает, чего хочет или она думает, что хочет куда-то, но все равно ничего не получится, но в общем, ей деваться некуда. Это европейская цивилизация, пусть отсталая ее часть, и вопрос только в том, когда она уже наконец бросит эти свои скитания и поймет, куда ей надо и станет. (В 1990-е годы была иллюзия, что это будет огромная Польша, которая когда-то присоединится к европейской зоне, сейчас это по-другому). Но все равно, ребят, ну вы чего, рано или поздно вы поймете, что не в Китай же вам идти. Между тем, здесь, в России, мне кажется, происходят довольно фундаментальные изменения психологические, которые не отрицают европейскую идентичность, потому что ее невозможно отрицать, но отвязывание происходит уже как в экономике, когда происходит интенсивное торговое взаимодействие с европейским союзом, культурное, что не означает, что мы обязательно относимся туда. Т.е. это, скорее, направление движения в сторону, условно говоря, Бразилии, которая часть европейской культуры, но это совсем не Европа. Мне кажется, что в Европе несколько высокомерно это не замечают.
Иван Крастев – Я с этим согласен. В Европе всегда был и, наверное, еще существует в политических кругах людей убеждение, что независимо от того, что российское руководство говорит, есть какая-то ситуация безальтернативности. России некуда деваться, потому что когда ты посмотришь на торговлю и структуру российской экономики, она довольно сильно зависит от европейского рынка. Я думаю, что как тело европейского союза мы довольно много уделяем внимание весу экономической интеграции, больше, чем это нужно. А второе: у нас есть сильное представление, что Россия сильно боится Китая. Я тоже довольно долго в это верил, потому что никогда не проверял. А когда ты начинаешь читать на самом деле, что происходит и видно все эти вопросы и даже все эти миграционные статистики и другие, что если даже в начале 1990-х Россия боялась Китая, но тогда Россия боялась всего. А теперь, с годами, нормализация отношений с Китаем идет, не просто отношений политических, но даже на уровне массовых представлений, конспиративных теорий и других, у них возросла напряженность, что можно заметить.
Второе, что очень трудно для европейцев понять – это проблема пространства. Все-таки я живу в стране, в которой живут 8 млн. человек и расстояние от одной нашей границы до другой границы – это 6 часов на машине. Я уже говорил, но вообще европейский союз очень много смотрит на разные графики: графики экономического роста и разные другие показатели. Мы на карту забыли посмотреть. И когда идет разговор о России про Сибирь, я всегда спрашиваю людей, а вы знаете, какая территория Красноярского края? Между прочим, территория Красноярского края – это территория Западной Европы. Там живут только 3 млн. человек на этой территории Красноярского края. Проблема пространства. Ты всегда думаешь, что у других, как у тебя: значит Россия – это побольше Болгарии, но все то же самое, только побольше. Это не то же самое. Потому что это совсем другое отношение к другим регионам, к другим людям. Эту проблему расстояния нам очень трудно понять. И это трудно для всех, не только для маленькой Болгарии, но даже для Франции для Германии, потому что это совсем другое пространство.
И третье, что трудно понять: это проблема нефти и газа. Потому что в каком-то смысле Россия успела реализовать советскую мечту. Это общество без эксплуатации человека человеком, потому что государство эксплуатирует природу. А это нефть и газ, это большие деньги, которые, ты не можешь понять, как они появляются. Потому что для европейцев ты не можешь быть собственником газового поля или нефтяного поля, это не то, что ты как-то создал или выдумал. Это как другая планета. Я думаю, что это большая проблема. Я некоторое время жил в Вене, и там очень много русских. Я не думаю, что венское общественное мнение – это какая-то проблема понять всех русских, которые там живут. А представьте себе русских в России
Федор Лукьянов – Проблема пространства имеет и обратную сторону, потому что сейчас чуть лучше стало, а еще совсем недавно мы не могли понять свой масштаб и взглянуть со стороны, что не может такая страна, как Россия, иметь в качестве своего главного или одного из главных врагов Эстонию или Грузию. Не может, не имеет права, потому что это унизительно для самой России. Между тем, в силу, видимо, травмы распада Советского Союза довольно долго, даже на официальном уровне, на уровне заявлений МИДа, риторика была такая, как будто злобная гигантская соседняя держава нас унижает, а мы отвечаем. Это касалось Грузии, Эстонии, Латвии. И это непонимание собственного масштаба и ощущение того, что мы на самом деле слабее, чем есть и чем думают остальные, с этой стороны, это тоже проблема. А вот что касается нефти и газа, то тут интересно. А в Америке как? Америка тоже крупнейший производитель нефти и газа, более того, там нефть и газ в частной собственности, у нас она хоть в основном государственная. А к ней относятся нормально при этом?
Иван Крастев – Если мы посмотрим 100 лет назад, многие из проблем, о которых мы говорим теперь в отношении Европы к России, были в отношении к Америке. Прочитайте, что думала Европа об Америке в 1920-1930-х годах, им очень сложно было понять культуру. Конечно, для европейцев довольно трудно понять тот акт, что там нет этнической нации в том смысле, в котором мы ее знаем. Но проблема, что в европейском представлении Америка не связана с нефтью и газом. То, что самое привлекательное для Америки (я когда-то делал книжку по истории антиамериканизма) есть только одна черта американцев, которая всем нравится – это технологическая культура Соединенных Штатов Америки. Между прочим, это было в Советском Союзе 1957 года – это первый спутник. Вы заметили, какие русские слова существуют в английском языке без перевода? Сперва был спутник, после этого появилось «гласность» и «перестройка» – эти слова никогда не переводят, «силовики» теперь тоже не переводят. Самое интересное для меня последнее: после протеста Березовского и Абрамовича в Лондоне тоже появилось слово «крыша», которое не переводилось. Это о чем-то говорит.
Федор Лукьянов – Все-таки действительно у нас стереотип наличия единого Запада очень силен. Этот Запад времен Холодной войны, который, вообще говоря, в истории единственный период, когда политический Запад существовал, ни до, ни после его не было. До Холодной войны европейские страны друг друга убивали, с Америкой были очень сложные отношения. А когда Холодная война закончилась и ушла угроза советская, тоже возникло ощущение, а зачем мы друг другу – у американцев свой горизонт, у Европы – свой. И на какое-то время эта связь начала слабеть. Сейчас создается ощущение, что что-то опять происходит. Т.е. вот это желание воссоздать что-то подобное единому политическому Западу появилось вновь, поскольку врага, подобного Советскому Союзу нет. Китай, при всем желании, все-таки не тянет, Россия тем паче. Но, тем не менее, вот это стягивание оно как-то снова происходит. Мое ощущение – потому что все боятся чего-то, не понятно чего, но боятся. А раз боятся, то проще как-то с теми, кого лучше понимаешь. Вот Запад может вообще воссоздаться на экономической основе, на ценностной основе в течение ближайших 10 лет, допустим?
Иван Крастев – Давайте расскажу все, начиная с китайско-американских отношений. Если ты посмотришь на Китай и на Соединенные Штаты не как политических акторов, а как опыт, как они знают мир. Как Америка знает мир? Америка знает мир на уровне и в результате того, что люди со всего мира едут в Америку. С этой точки зрения Америка знает мир в том смысле, в котором может сделать из разных людей американцев. Это американское представление о мире, потому что Америка – это страна, в которой имеется самое большое число эмигрантов. Что Китай знает о мире? Китай – это страна, где самая большая диаспора. Китайские диаспоры – это China Town. А на самом деле Китай знает мир, потому что везде в мире есть China Town. Американские познания мира заключается в том, что они знают, как сделать из других людей американцев. И с этой точки зрения американская внешняя политика – это внешняя политика трансформаций: ты хочешь сделать мир, чтобы он напоминал о Соединенных Штатах. China Town никогда не пробовал менять общество и страны, в которых они культивированы, он всегда хотел сперва сохранить свою собственную идентичность, и второе – использовать ее. Я думаю это важно, потому что когда люди говорят об американско-китайских отношениях, они считают, что Китай будет вести себя как соединенные Штаты Америки, но только чтобы он сделался китайским. Это абсолютно невозможно, это другая культура.
Вторая проблема, абсолютно неприемлемо, что я вижу в мире. Мир сегодня, в результате финансового кризиса для всех игроков: Китая, России, Бразилии, США – самое главное – как сохранить политическую и экономическую стабильность дома. Это не то, что сделать вне твоих границ, а чтобы взять глобальный ресурс на то, чтобы успеть стабилизироваться дома. И в результате этого идет такая сильная напряженность, потому что никто уже не говорит о глобальном мировом порядке и как это быть или не быть. Каждый хочет, чтобы появились такие отношения между игроками, которые бы позволяли максимальную политическую стабильность у себя дома. И здесь появляется для меня самая большая проблема. Это довольно сильно видно в Европе. После 1980-х годов все думали, что в Европе есть (не все, скажем в Восточной Европе) думали, что есть только один проект – это проект расширения Европейского союза. Оказывается, что 4 проекта начали в 1991 году, и все они были довольно новые, и все они были схожи. Был, конечно, и проект расширения европейского союза и в результате этого трансформация Европейского союза. Потому что европейский союз, который существует сегодня – это не европейский союз, который существовал в годы Холодной войны. Проблема появления постимперской России, потому что в своей истории Россия никогда не была национальным государством и как сделать из этого национальное государство не понятно. Появилась проблема посткемалистской Турции, это тоже мы никогда не знали. И четвертое: люди не заметили, что последние 25 лет Европа напоминает Африку 1960-х годов – 25 новых государств появилось. Но уровень государственного строительства напоминает Африку во время деколонизации. Как сделать это государствами, у некоторых было только имя и границы, и ничего другого?
Федор Лукьянов – У некоторых даже имени до сих пор нет – с Македонией никак не решат
Иван Крастев – Да, безусловно. Для меня самая главная проблема в Европе – как можно вести политику, которая бы не сделала так, чтобы эти 4 проекта дестабилизировали мир. Это не delays of powers, это delays of projects. Потому что всё это проекты, все четыре. Лишь во время кризиса вы видите Европейский союз, у нас есть довольно сильный политический кризис, который не просто экономический. Я думаю, что проблема политической идентичности России тоже не решенная проблема. В Турции проблема передоговора. Что это значит в посткемалистской Турции? И когда ты идешь на Балканы и на постсоветское пространство, Балканы я знаю намного лучше, все эти национальные проекты довольно хрупкие, все может развалиться на днях. Как создать систему, которая позволяет, чтобы они друг друга стабилизировали, а не дестабилизировали?
Федор Лукьянов – Может быть, как раз настало время вернуться к старым добрым рецептам, и Соединенные Штаты все равно при всех своих проблемах остаются самым мощным государством мира, почему бы хотя бы Европе не вернуться под зонтик, патронат?
Иван Крастев – Проблема в том, что Россия – это новое торговое пространство между европейским союзом и США, которые теперь будут переговариваться, конечно, это будет совсем другая игра. Потому что это что-то намного сильнее, важнее НАТО, это уже реконструкция Запада как экономического субъекта, это новая политика сдерживания Китая как экономического игрока, и для России это будет тоже очень трудная ситуация. Но не так легко договориться. Один пример. Теперь цены газа в Соединенных Штатах Америки в 3-4 раза ниже, чем в Европейском союзе. В результате этого последние 2 или 3 года пошел процесс реиндустриализации Соединенных Штатов. У них теперь появляется опять индустрия, это стало возможно, в результате очень низкие цены на энергоносители. И для Европейского союза это очень трудная проблема. Потому что если этот торговый блок будет в результате еще одну волну деиндустриализации европейского союза для нас это будет большая проблема, потому что проблема безработицы молодежи в европейском союзе довольно высокая (острая). С этой точки зрения Франция не захотела культурный продукт американский. Это говорить можно. Самое главное: готов ли европейский союз существовать как деиндустриализованная экономика, когда все другие крупные в реиндустриализации.
Федор Лукьянов – Очень интересно, этот аспект у нас пока мало обсуждается. Но мы опять попадаем в ситуацию какой-то оппозиции. Потому что Путин года 2 или 3 назад (он еще премьер-министром был) ездил в Германию и опубликовал программную статью, где главная была: Россия и Европа – партнеры по реиндустриализации, настала пора, и мы пережили кризис, и у вас тут все в Китай ушло, вот, наконец, мы объединимся. Получается не то, что бы Россия предлагает альтернативу, но идейно Америка фактически говорит Европе: станьте комфортабельным сервисным придатком, а Россия говорит: станьте нашей промышленной базой, мы вам поможем. Думаю, что и то, и другое довольно проблематично, но забавно, что мы опять друг против друга оказываемся.
Иван Крастев – Самая главная проблема в отношениях с Россией всегда было желание российской стороны сохранить такой уровень суверенитета за собой, который никакой из членов европейского союза не имеет для себя. И с точки зрения европейского союза это внимание, которое очень долго вело к реиндустриализации через ресурсы в России. Все-таки вы хотите, чтобы был рынок, но если не получилось на рынке, российское государство могло что-то сделать, как-то надо жить, только с правилами регуляции, которые мы сделали. С этой точки зрения для Европы это довольно трудная ситуация, потому что Европа технологически более развита, чем многие другие регионы мира. Это, между прочим, проблема Турции, потому что в Турции очень впечатляющий экономический рост, но у них технологическое развитие намного ниже, чем у Европы, а стоимость труда стала намного выше, чем в развивающихся странах. И где ты будешь, для Турции это очень сильная проблема. Когда появился разговор о торговом договоре Европейского союза и Соединенных Штатов, Турция попросила США, чтобы появился договор между Турцией и Соединенными Штатами, а то Турция оказалась в экономическом пространстве, сидит там у Ближнего Востока..
Федор Лукьянов – Я еще один хочу аспект затронуть. Вы сказали, что Россия за последнее время обогатила мир понятием «крыша» и «силовики», что, конечно, любопытно и достойно изучения. Но помимо этого все-таки за последние 10-13 лет, если говорить какой бренд Россия дала миру, то это бренд «Путин». Путин, безусловно, стал не просто президентом России, он стал неким символом в мировом дискурсе, символом довольно любопытным. Если отвлечься от симпатии-антипатии, понятно, что его фигура вызывает разные оценки, но если от этого отвлечься и посмотреть просто на сущность этого образа, это образ очень сильный, очень демонизированный (т.е. некое сосредоточие качеств, которые будучи повернуты против других являются очень мощными), фигура, которая в основном вызывает на Западе негативные эмоции, но при этом определенное уважение есть, и чаще можно в каких-то газетах встретить публикации, которые говорят о том, что мы тут в соплях запутались, ничего не понимаем, посмотрите хоть вот Путин, да, он нехороший, его политика нам не нравится, но, по крайней мере, он знает, что он делает. И то же самое буквально на днях я в Вене выступал на дискуссии по Сирии, и там прозвучала такая оценка американская, что стратегия России отвратительная, но она есть, а больше ни у кого нет, и вообще если так, то лучше уж иметь такую. Вот как вам кажется, на мой взгляд, это отражение не столько отношения к Путину, сколько восприятие Западом своей слабости, которую не хочется признавать. Может быть я не прав? Какое место занимает его образ в западной дискуссии?
Иван Крастев – Для меня было три разных этапа в оценке Путина. Когда он появился это была ситуация когда Россия не выглядела хорошо. Первые 2 или 3 года это был человек, которого там назначили, какого-то полковника из служб. Это было такое отношение. Его политика тогда не вызывала напряжения с точки зрения Запада и США, потому что он был классический западник первые 2 или 3 года. Не забывайте, что после 11 сентября он был тот человек, который решил поддержать Буша. Проблема в том, что после этого второй период — это был Путин — лидер. Теперь стали говорить, знаете, может быть, он нам не нравится, но мы понимаем, почему русские его поддерживают — потому что он строит государство. Это говорили даже люди, которые довольно критически относятся к нему, они верили в то, что это абсолютно легитимный процесс государственного строительства. И они говорили: конечно, в России выборы особые, но даже если бы выборы были честные, они выбрали бы Путина. Я думаю, что это был абсолютный консенсус. Некоторые это скажут открыто, другие не скажут, но все это знали, и конечно социологические опросы это показывали, экономическое развитие это показывало. То, что случилось и это связано с популярной культурой. С этой точки зрения протесты поменяли представление о Путине. Как-то он очень долго сидит. Это очень сильный фильм, но когда ты вечно этот фильм смотришь, то не так уже вдохновляешься. Теперь самое главное стало не в политике Путина, который по Сирии (многие европейцы соглашаются в том, что мы делаем в Сирии мы не знаем) но с другой стороны бренд Путина как-то оказался уже не тот, что был 4-5 лет назад. И самое главное было рокировка. Это было эстетически не хорошо с его стороны. Второе (это уже моя перспектива на то, что случилось), но если мы посмотрим издалека, увидим, что у Путина очень сильная и уверенная оценка людей. Он когда относится к людям, он никогда не ошибался, он правильно знал, что Медведев проблемой не будет. Все это он правильно знал, но когда речь пошла об институтах, стало странно — он все время разрушает институты, которые сам создавал. Ты создаешь Единую Россию и после этого создаешь Народный фронт, а после этого будет космически фронт? Все время какая-то институциональная нестабильность. Я думаю это начало как-то..Они говорят, если он такой государственный строитель, почему так получилось? Между прочим, что-то довольно схожее случилось и с Эрдоганом. К Эрдогану было много больше подозрений, чем к Путину, потому что Путина никто не воспринимал как идеологического игрока, а Эрдоган все-таки делает радикальный ислам. Людям больше нравится, когда ты идешь не из разведки, а из тюрьмы, как было в случае с Эрдоганом. Но с этой точки зрения это два политических лидера, многие теперь даже скажут, что это было бы хорошо, если бы у нас были лидеры, которые могли бы принимать такие решения. Но появилось ощущение, что власть и в России, и в Турции стала довольно персоналистической. И я не знаю, насколько бренд Путина на следующие 2 или 3 года может удержаться на том уровне, на котором он был 5-6 лет назад, тогда даже людей, которые с ним не соглашались, говорили: знаете, то, что он делает нехорошо, но он знает, почему он делает, он имеет право это делать, все-таки это наверно выбор для России.
Федор Лукьянов – Это как раз возвращает к теме мягкой силы, которая, как уже многократно описывалось и объяснялось, в общем, мягкая сила появляется тогда, когда государство обладает четким пониманием себя и может это экстраполировать, дальше уже идут инструменты всякие, контрпропаганда, как угодно. Но когда тебе есть, что транслировать, как было у Советского Союза в лучшие времена, тогда появляется мягкая сила. А когда возникает подозрение, что на самом деле что это абсолютно «потемкинская деревня», т.е. фасад без содержания, тут возникает проблема и с брендом и с убедительностью.
Иван Крастев – Между прочим, сходная проблема появилась у Обамы, потому что это тоже был очень сильный бренд. И это был бренд мягкой силы, когда негр стал президентом — это была американская мечта. И проблема была. Уверенность европейское общественное мнение, что это совсем другое, когда речь идет о войне, о слежке. С этой точки зрения то, что случилось в Лондоне это такой большой кризис бренда Обамы, потому что говорят: а почему он так выглядит по-другому, чем Буш, почему ничего не поменял? С этой точки зрения это не только российская проблема. Я думаю, что есть кризис бренда Путина и после протестов это видно. Не то, что он стал слабее в политическом смысле слова, но как-то это уже не то.